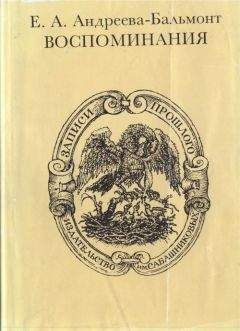Однако пора действовать, времени оставалось мало. Нужно воспользоваться уходом Пети. Глаза Сони остановились на разбросанных вещах брата, и у нее молниеносно созрел план. Надо бежать, и бежать немедленно, переодевшись в Петину форму. Лукомский принял этот план и с уверенной быстротой начал его осуществлять.
Соня отвернулась. Петр Ильич начал переодеваться. Она слышала скрип ремней, шорох белья… Разбитое окно стояло перед ней. Она не замечала веявшего из него холода. Дуло, правда, не очень сильно, так как стекла второй рамы были целы. За окном рассеивалась молчаливая и смущенная ночь, похожая на запыленного всадника. Начинало светать. Точно из тумана выплыл кусок серого, нудного, наклонившегося забора. Бывают минуты, когда вся земля кажется изжеванной, грязной, покрытой бесчисленным количеством длинных, пыльных, несносных, потрескавшихся, с плесенью и пылью заборов. Вот показался угол дома, точно нос баркаса, готового двинуться в путь… Ветер гонит по земле сухой снег, точно белые смятые листья. Вот железнодорожная линия, насыпь, рельсы, какие-то гигантские вздувшиеся жилы. Какой мутный свет, какие тусклые предметы… Эта унылая картина произвела на нее гнетущее впечатление. А что, если бегство не удастся? Впереди еще столько преград. Все прошлые и, можно сказать, главные трудности после того, как они преодолены, всегда кажутся пустячными по сравнению с ожидавшими впереди.
— Ну вот, все готово.
Она обернулась. Перед ней стоял Лукомский в форме офицера. Он насмешливо улыбался.
— Мы вместе? — спросил он.
— Конечно.
— У меня есть удобное место… Полная безопасность…
Когда Петя пришел в себя, он понял, что совершил преступление. Как он мог допустить свидание сестры с комиссаром! Какая неосторожность! И какая неблагодарность со стороны Сони — увести пленника, которого он обязан охранять. Неожиданный приход сестры ночью его так взбудоражил, что он потерял голову и за это должен заплатить жизнью. Петя вспомнил, какое бешенство вызвал побег Лукомского среди высшего командования. Слухи об этой истории поползли по всей Добровольческой армии. Петю называли изменником. Но он виновен лишь в неосторожности, усталости, разочаровании, — это он твердо знал. И все же бывают роковые поступки. Его попустительство произвело такой взрыв негодования в офицерских рядах, что командование, опасаясь резких протестов, решило принести его в жертву, хотя знало, что действия его были неумышленными. Более выдержанный офицер должен был арестовать сестру. Он этого не сделал. И вот теперь наступил час расплаты.
— Скажите, — задал ему вопрос председатель суда, — правда, что вы отпустили этого комиссара только потому, что он был любовником потаскухи, которая доводилась вам родственницей, если не ошибаюсь, даже сестрой?
Петя посмотрел на жирные усы полковника. Они показались ему в эту минуту грязными, сальными метелками. И ответил одним словом, более презрительно, чем зло:
— Мерзавец!
На этом суд закончился. Через час его повели на расстрел.
Было часов одиннадцать утра. Солнце оживляло заснеженные улицы ровным и ясным светом. В окнах сквозь стекла и кисейные занавески он различал любопытные лица, поджатые губы, пристальные взгляды. Сожаление чередовалось со злорадством. Особенно запомнилось бородатое лицо грузного торговца, вылезшего на ступеньки своей лавчонки полюбоваться бесплатным зрелищем. Одной рукой он теребил бороду, другой поглаживал себя по толстому животу. Он, казалось, был в отчаянии оттого, что его зрачки не могли просверлить голову преступника, чтобы узнать, что делается там сейчас. Он прислонился спиной к дверям лавки, своего мирка, набитого булавками, пуговицами, нитками, пыльной карамелью, дохлым шоколадом, чахлыми овощами и залежавшимися булочками. В окне как на параде было выставлено его убогое воинство, казалось, так же злорадно глазеющее несуществующими глазами на преступника, ведомого на казнь. Петя запомнил с особенной остротой все, что было в окне, напоминавшем вытянутые щеки чиновника: бутылочки с уксусной эссенцией, баночки с горчицей, маринады, катушки с нитками, крахмал, мел, синьку, сито, бумажные цветы и перочинные ножи. Потом все это исчезло, точно смыла вода, но каким-то далеким отражением продолжало существовать в мозгу, наполняя его шероховатой тревогой и неудобством.
Всеми этими мелкими, необходимыми, но какими-то пыльными и ничтожными предметами сама жизнь, так внезапно от него отшатнувшаяся, кидала в него исподтишка и нерешительно, подобно тому, как враги, трусливо прячущие свою подлость, кидают в своего противника комья грязи.
На углу улицы он увидел играющих мальчишек. По странной случайности они играли в «расстрел» (а тогда многие дети играли в это), ведя под конвоем «преступника» — веснушчатого мальчика лет десяти, который тщетно пытался перекроить свою веселую, розовую и восторженную мордашку в испуганное лицо смертника.
— Раз-два, раз-два, — командовал старший, размахивая палкой, долженствующей изображать шашку наголо.
Увидев взрослого, которого вели настоящие конвоиры, они впились в него взглядом, а мальчик, изображающий смертника, не выдержал и взвизгнул от удовольствия:
Его поймали, арестовали
И приказали долго жить…
Какая-то толстая баба в пуховом платке закричала визгливым голосом:
— Замолчи, пострел! Ух, глаза твои бесстыжие…
Пете сделалось противно от этого визгливого сочувствия, похожего на звон разбитой бутылки с касторкой. Он почувствовал нечто вроде удовлетворения, когда мальчишка, певший песенку, высунул язык и с уличным азартом ловко и верно передразнил ее тон, лицо и голос.
Она отплюнулась, а он, забыв об игре и о Пете, увлекся подражанием ее походке.
Они вышли за город. Вот тюрьма. Здесь производят «это». Во дворе или за стенами? Петя ничего не видел кроме снега, солдатских сапог и своих рук, замерзших и красных. Он был без перчаток.
Вот и стена — высокая, крепкая, как прямая, упрямая спина какого-то страшного не то живого, не то мертвого существа. Беспомощное солнце ровно и спокойно освещает ослепительно белый снег. На него больно смотреть… Небо голубое… а снег почему-то не голубой… Снег белый… ах да, если бы это была вода, она казалась бы голубой. Вот руки — красные. Должно быть, и снег будет красным… Он вдруг вспомнил, как в детстве перебегал зимой через двор с банкой красных чернил, споткнулся и упал. Какими красивыми тогда казались алые пятна на белом снегу… Лают собаки… неужели в тюрьме держат собак?.. Ах да, ищейки… Бывает ли шерсть голубой? Так хотелось бы уткнуться лицом в теплую собачью шерсть. Еще несколько дней назад он играл со щенком. Взял его на руки, положил ладонь под теплый живот… животик щенка, визжавшего и лизавшего ему руки… Вот щелкают затворы, как челюсти голодного волка… Чьи-то глаза впиваются в его глаза… светлые, испуганные… Какой он губернии? Может быть, Тверской?
Раз, два… три…
Эхо выстрелов гулко прокатилось вокруг стены, напоминавшей разрушенную крепость. Желтое яростное солнце по-прежнему пронизывало воздух теплыми, но беспомощными лучами.
В этот момент в городе поднялся страшный переполох. А еще час назад все было внешне спокойно. Донесения с фронта вещали о добровольческих победах и наступлениях. И вдруг… эвакуация — спешная, паническая… Красные у самого города. Их разъезды видны невооруженным глазом. И вот та часть города, в которой расположена тюрьма, уже занята красными.
У большой стены, похожей на спину какого-то чудовища, копошились красноармейцы, делая неумелыми, заскорузлыми руками перевязку истекающему кровью человеку.
— Ну как?
— Дышит.
— Изрешетили здорово.
— Какой здоровый! Хорошо, что мы помешали, иначе бы дали второй залп.
— Пить… — прохрипел раненый.
Воды поблизости не было. Кто-то уже мял снег, осторожно поднося его к запекшимся губам раненого.
Через несколько минут он лежал уже в тюремной больнице, и перепуганный «переворотом» доктор делал перевязку бывшему офицеру Петру Орловскому. Красноармейцы уже знали его историю и толпились у дверей лазарета, допытываясь у врача, есть ли надежда на выздоровление больного. Доктор, стараясь быть как можно ласковее с новыми хозяевами города, весело улыбался:
— Есть надежда, есть, товарищи-братишки…
Комната освещалась свечами, воткнутыми в бутылки. Белые, отступая, разрушили электрическую станцию, и город погрузился во тьму. На дверях с наружной стороны прибита медная дощечка с надписью «IV класс», а сверху, наполовину закрывая ее, — бумажная наклейка. На ней синим карандашом небрежно набросано: «Комната № 9. Тов. Лукомский». Здесь душно, шумно, тепло и накурено. Сквозь синий табачный дым сверкают белые зубы, розовые щеки и задорные огни глаз. Среди них одни женские — тихие, задумчивые и счастливые — Сони. Она смущена шумным говором, расстегнутыми воротниками гимнастерок, сверканьем зубов, глаз, табачным дымом — этим неуловимым полуреальным флагом мужественности. Соня опускала глаза, смотрела на пол, и ей казалось, что она попала в цейхгауз, в котором стояли в самых причудливых позах сапоги, ожидающие будущих хозяев. Пол был затоптан и исцарапан. Неожиданно в ее памяти всплыли заплеванные, искрашенные полы кафе и чайных — и невольно в мозгу пронеслось сравнение: и здесь и там — сор, окурки, грязь, но насколько не похожа та грязь на эту. Здесь даже в позе окурков, если можно так выразиться, было какое-то благородство, и грязь была как бы случайной, не бьющей в глаза, она не пачкала, а там, в кафе, казалось, вытекала из самих душ, точно из лопнувшей канализационной трубы, жидкая и зловонная.