— Я пойду по берегу к островку, а ты сбегай к тете Зойке и скажи, чтобы зараз же пришла… Тихонько, на ухо скажи, что я жду…
Евдокия Ильинична принесла кувшин, наливала молоко в стаканы и расхваливала свою корову. Пригубила стакан, как бы желая убедиться, в самом ли деле молоко какое-то особенное. Да, точно, особенное. Евдокия Ильинична весело посмотрела на сына, не пряча от него щербину, и спросила:
— Сынок, к Онихримчукову поедешь?
— Обязательно…
— Ох, лучше не езжай… Начнет Онихрим-чуков жаловаться.
— На что, мамо?
— На то, что не хотят наши хуторяне переселяться на Щуровую улицу.
— Как не хотят?
— Ну, обычно. Сказать, не желают.
— Мамо, вы тоже не желаете?
— И я не желаю… Не хочу, сынок, от своих людей отбиваться.
— Но почему, мамо?.
— Да, да, почему? — живо спросил Леонид. — Евдокия Ильинична, можете ли вы толком нам объяснить, почему и вы и хуторяне отказываетесь от своего счастья? Или у хуторян нет денег, чтобы заплатить за новые дома? Я ничего не могу понять.
— Загвоздка не в деньгах…
— Тогда в чем же?
— Есть, дети, одна закавычка…
— Неожиданное препятствие, — пояснил Антон, взглянув на Леонида и Клаву. — Какая же, мамо, та закавычка?
— Щуры! — Глаза у матери слезились и озорно блестели. — Щуры не дадут людям спокойно жить. Знаешь, сколько их там гнездится — тучи! А какой на зорьке поднимается щуровый гвалт — ушам больно! На десять верст слышно. На что Кубань шумливая, так и она перед щуровыми голосами смолкает. Вот хуторяне и боятся: не смогут спокойно спать… Это, сыну, и есть закавычка..
— Не хитрите и не мудрите, мамо, — сказал Антон, закуривая. — Это Леонид или Клава еще могут вам поверить. А я-то сын ваш и хитринку вашу вижу в ваших глазах. Щуры не дадут спать? И такое придумали, мамо…
— Эх, Антоша, Антоша, хоть ты и сын мой, а ничегошеньки ты не видишь. — Мать виновато взглянула на гостей. — Всем вам удивительно. Что же это такое, думаете, или совсем посдурели хуторяне, что от своего добра убегают? А известно вам, дети, что оно такое — переселить целый хутор? Это все одно, что разорить птичьи гнезда. Пойдите и разорите в круче щуровые поселения. Что скажут щуры? Возрадуются, благодарить станут?
— Птицы! Гнезда! Слышишь, Антон, очень удачное сравнение, — сказал Леонид. — Мамаша, вы говорите образно и точно… Разорить птичьи гнезда… — Мамо, новые-то гнезда покрасивее и для жизни поудобнее, — сказала Надежда, краснея и улыбаясь. — Может, я и не- права, но всем же видно, что хутор погибает.
— Верно, дочка, хутор гибнет, — согласилась Евдокия Ильинична. — Кубань съедает хутор… И те домики, что на Щуровой, сказать, молодые, красивые, и поселять в них надо молодежь, тех, кому, еще жить и жить и кто еще не успел обзавестись своим гнездом. Им, молодым, все одно, где жить и к чему привыкать. И вы, Леонид и Клава, и мои дети уехали в город и там быстро привыкли. А старый человек так не может. Возьмите меня. Как же меня выселить из хутора? Тут, в этой хате, вся я и вся моя жизнь. И любила, и страдала, и плакала, и веселилась, и детишек рожала — все тут, в этой хатыне. Более тридцати лет хатенка меня согревала и радовала. Так мы с нею и жили, считай, в обнимку. И чего тут только не было, и не знаю, чего больше: радости или горя и слез… И как же все это, насиженное и обжитое, бросить и уйти? В каждом уголочке вижу себя и свою жизнь, и на всем, к чему ни прикоснусь, лежат следы моих рук. И как же тут, в хате и в хуторе, привычно и хорошо!.. Утром встанешь, а кругом все свое, все такое милое сердцу… Правильно люди толкуют: в своей хате и стены жить помогают… Перенести бы наши хаты и дворы чуть подальше от Кубани, вот на тот пригорок…
— И на Щуровой будет свой дом, и он будет помогать жить, — сказал Антон.
— Такого, сынок, своего угла уже не будет, как не будет у твоей матери другой жизни. — Она тяжело вздохнула. — Одна у человека жизнь…
— Я, мамо, понимаю, и привычка и вся ваша жизнь — это весьма и весьма важно. — Антон курил и ходил по комнате. — Понять могу, а согласиться не могу! Хоть на старости лет поживите, мамо, по-людски, в светлых комнатах. Ведь эта привычная вашему сердцу убогость через год-два сама развалится. Тогда что, мамо? У своих сыновей жить отказывались? Где будете жить? Развалится же хатенка, и отремонтировать ее уже нельзя… И Кубань все одно смоет хутор.
— Оно и мне, Антоша, не два века жить, как и моей хате…
Наступило молчание. Евдокия Ильинична платком вытирала слезы, и ни Антон, ни гости не могли понять, плакала она или старые ее глаза устали и слезились. Разговор о Щуровой улице не возобновился.
— Мамо, когда же вы в гости к нам приедете? — нарочито весело спросил Антон. — Ждем, ждем, а вы все не приезжаете.
— Никак не соберусь.
— Приезжайте на Октябрьские праздники, — сказала Надя. — Пока будете гостить, новые зубы вам вставим.
— Щербина и меня, дочка, тревожит, — грустно сказала Евдокия Ильинична. — И в разговоре шепелявость, и в еде неудобство… Может, по осени и приеду. Погляжу, как вы живете.
И снова разговор оборвался. Мать занялась посудой. Молчаливый, грустный Антон сел за руль и уехал в Трактовую, чтобы от Онихрим-чукова узнать, правда ли то, что прискорбнен-цы не хотят переселяться на Щуровую. Желая повидать новостройку и станицу, с Антоном уехали Надежда и Клава. Юрка и Катя, разумеется, забрались в машину первыми.
Леонид сидел на лавке и наблюдал, как Евдокия Ильинична убирала со стола. Он смотрел как художник, видел ее старательные руки, ее задумчиво-грустное лицо, и ему захотелось нарисовать ее портрет. На его просьбу, сможет ли она позировать и есть ли у нее свободное время, Евдокия Ильинична ответила:
— Время найдется… Зараз уберу со стола и приоденусь. Только щербину мою не рисуй, — смеясь, добавила она.
В тени возле хаты стояли табуретки. На одной, скрестив на груди голые выше локтей, сильные волосатые руки, сидел, готовый приступить к делу, Леонид, а другая поджидала Евдокию Ильиничну, которая согласилась посидеть перед художником. Она не понимала, что оно такое — позировать, а вот что такое посидеть, понимала.
Рисовать портрет — для каждого живописца дело привычное и не новое. Леонид тоже не первый раз садился к мольберту и всегда был спокоен. Теперь же, поджидая хозяйку дома, почему-то волновался, как студент перед экзаменом. Курил и поглядывал на низенькую хатенку. Перед глазами темнела соломенная стреха, ощипанная ветрами и побитая воробьиными гнездами. Заспанные, тоскливые оконца, к стеклу прижались листочки цветов и свисали красные, как мак, сережки. А рядом, в десяти шагах, бурлила, шумела Кубань.
Леонид думал о Евдокии Ильиничне и никак не мог понять, почему она не желает переехать в станицу и поселиться в новом доме, что заставляет ее так цепко держаться за это, по существу, пришедшее в негодность жилье. Всей своей тяжестью годы наваливались на хатенку, неумолимо давили ее, и она, бедняжка, сгибалась и постепенно умирала. Если не желает переселиться в станицу, на новую Щуровую улицу, то пусть бы перебирались туда Илья и Елизавета, а она могла бы уехать жить к Антону. Не уехала, тоже не пожелала распрощаться с хатенкой, хотя сын сколько раз приглашал. Неужели старая женщина не понимала, что на казачьей земле и этот хутор с таким грустным названием, и эта хатенка свое отстояли и, разумеется, не без пользы; что не сегодня, так завтра вот такие хатенки со своими почерневшими стрехами и воробьиными гнездами исчезнут, и исчезнут не потому, что их смоет Кубань, а потому, что будут построены новые дома и кубанская земля наконец-то повсюду освободится от жилья, на которое совестно смотреть?
Только по этой причине Леониду и хотелось написать портрет знатной телятницы не в окружении вишен или на берегу Кубани с видом на буруны, а на фоне именно этой неказистой хатенки, чтобы для потомков запечатлеть характерный кусочек Прискорбненского хутора. Через многие годы кисть художника будет свидетельствовать, что в середине двадцатого века на кубанском берегу стояла эта развалина. Вот она, перед вашим взором, как живая, без приукрашивания и без очернения, а в точности такая, какой видел ее художник. И вы, жители нового века, смотрите на это жилье и знайте, что в те далекие годы такие неказистые хатенки были рассыпаны по кубанскому простору.
И в хатенке жила Евдокия Ильинична Голуб-нова, ходила по тропе на ферму, вырастила пятерых детей и в этой хатенке состарилась. Вот и она перед вами. Сидит на табуретке в беленьком платочке. На лице морщинки, во взгляде лукавинка. Те далекие люди посмотрят на портрет и скажут: «Ничего особенного, так, обычная немолодая женщина-крестьянка». Они-то, наверное, не будут знать, что женщина эта не простая и не обычная, что в те минувшие годы она славилась трудом, потому что была такой труженицей, какую еще не знала кубанская земля.
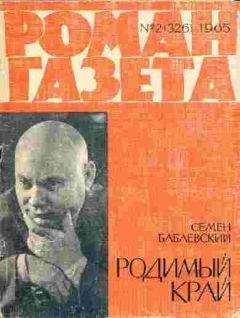
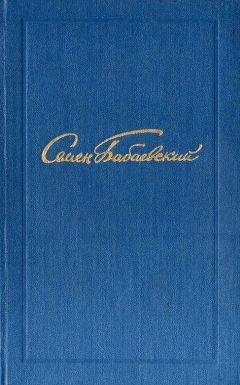
![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)


