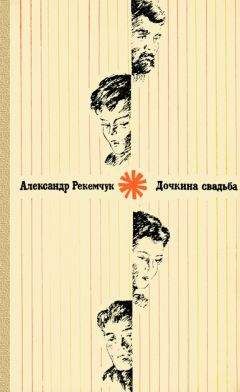Не то чтобы ему не нравилась ее красота — она ему очень нравилась. Но эта красота пугала, наводила тоску, внушала мысль о недоступности, как казенная табличка на двери. Она всегда приводит человека в робость и уныние — любующаяся собою праздная красота.
Именно праздная. Поскольку в непраздный час красота забывает блюсти свое совершенство. Не до этого ей. У нее тогда раздраженная походка, заострившийся от злости подбородок.
— Я к нему два месяца хожу с этим проектом. Взглянуть не удосужился… Хотела бы я знать, кто его назначил председателем райисполкома?
— Его не назначили, а выбрали, — поправил Коля Бабушкин. — Меня, правда, на той сессии не было.
Он сидел и любовался ею — трепетной, злой. Он уже не впервые видел ее такой. Первый раз, когда ей лодыжку кипятком ошпарило. Потом — на заседании исполкома, где чуть не заклевали Черемныха. Потом — в снегу, когда он, ради смеха, хотел ее поцеловать.
Но тогда, в те прошлые разы, она еще не была ему так дорога и мила, как сейчас.
В те прошлые разы он еще не знал, что любит ее.
— Ты успокойся, — попросил Николай. — Не волнуйся. Два месяца подряд волноваться — от этого заболеть можно… Слышишь?
Он хотел бы, конечно, по-другому сказать ей об этом — чтобы она не волновалась, чтобы она берегла себя. Он мог бы найти слова нежней и душевней, да их и искать-то не нужно — они все наготове, душевные и нежные слова. Но чтобы высказать их, следовало назвать ее по имени, обратиться к ней.
В самую что ни на есть тяжелую и горькую минуту человек успокаивается немного, если его назвать по имени. Бывает, что человеку очень тяжело и горько, и он даже плачет от горести, от тяжести. И нечего сказать ему в утешение. Тогда его просто называют по имени. Гладят его по голове, трогают за плечо и повторяют его имя: имя, имя, имя… Как ни странно, это успокаивает человека, утешает его.
Так вот Коле Бабушкину, конечно, следовало обратиться к ней по имени. Но он еще ни разу по имени к ней не обращался. Они были ровесниками и, по праву юности, с первого же дня говорили ДРУГ другу «ты». Однако по имени Николай еще ни разу ее не называл. Он избегал этого.
Как ее называть? Каюров говорил «Ирина Петровна». Черемных говорил «Ира». Вова с Митей говорили «Ирка. Ирочка». Ее по-разному называли. И она на все эти имена откликалась.
А Коле Бабушкину не хотелось за другими повторять. Блажь, конечно, но ему очень не хотелось называть ее так, как уже называли другие. Интересно: откликнулась бы она на деревенскую «Аринку»? В Лаптюге, например, где Коля Бабушкин родился, всех Ирин звали Аринками. Хотя их там и не много было. Там было больше Тамар — страх сколько их там развелось в последнее время, в Лаптюге, Тамар.
И сейчас у Николая родилось настойчивое, терпкое желание назвать ее Аринкой. Почти уже слетело с губ: «Аринка»… Но он превозмог в себе это желание. Он побоялся, что так ее тоже, наверное, кто-нибудь называл. Что она уже откликалась на «Аринку». А ему не хотелось повторять за кем-то.
— Смотри, — сказала Ирина, распластав шуршащий ватман. — Новый мост.
Голубая дуга переметнулась с берега на берег. Она была как прыжок; одна нога здесь, другая — там. Она была как космическая траектория — изящна и невесома. Частые ресницы перил вдоль изгиба. Прозрачные столбы-светильники. И больше ничего. Здорово.
— Это сделали Вова и Митя — ты их знаешь, — объяснила Ирина. В голосе ее прозвучала гордость.
Николай сощурился, вгляделся повнимательней в проект… Все-таки можно бы и прямее сделать мост, чего уж тут гнуть-загибать? И не мешало бы с одной стороны и с другой стороны поставить разные возвышенные скульптуры…
Но тут же Коля Бабушкин почувствовал, что лжет самому себе.
Ему как раз тем и понравился мост, что нет на нем никаких таких скульптур. Уж ему-то, Коле Бабушкину, строителю городов, сполна пришлось хлебнуть досады и горечи, громоздя где попало, на крышах и балконах, у ворот и подъездов разные шары и статуи, всяческие блямбы и шишки… Потом эти подъезды заколачивали гвоздями, и люди входили в дом со двора. Потом на этих статуях, на их непокрытых головах, на их обнаженных плечах смешно и уродливо копился снег. А на деньги, которые стоили блямбы и шишки, можно было построить целый дом…
И еще Коля Бабушкин почувствовал, что ему очень нравится смелый изгиб моста, у которого нет иных опор, кроме двух берегов. Да, интересно было бы строить такой мост. Машинально Николай уже прикидывал на глаз: как можно монтировать — на весу — его секции…
И еще Коля Бабушкин признался самому себе, что все возникшие у него сомнения насчет моста объясняются очень просто: этот мост проектировали Вова и Митя, Верзила и Крошка, — ее однокурсники.
А ведь судя по этому мосту, они ребята дельные. Хотя и ходят в каких-то немыслимых кофтах-душегрейках. Хотя и чихали тогда, на концерте народной артистки.
Николай уже не раз встречал здесь, на Севере, таких непонятных ребят. Вроде бы они и стиляги, а вроде бы работают не хуже других. И лезут в тайгу без страха — прощупывать там взрывами землю. И кормят комарье на болотах — исследуют грунтовые воды. И ничего, не жалуются. Только распевают самодельные песенки, от которых либо краснеют, либо плачут девчата…
Так что у Коли Бабушкина развеялись все предубеждения против Верзилы и Крошки, против Вовы и Мити, когда он взглянул на их проект. Сразу видно — дельные ребята.
Брились бы вот почаще.
А мост хорош.
— Стальной или бетонный? — осведомился Николай.
Ирина отпустила ватман, он свился с недовольным шорохом. Невесело усмехнулась.
— Бумажный…
За окном (третьего этажа окно) виднелась белая полоска Чути, надвое рассекшая город. Но старый мост не был виден отсюда: пол-окна заслонил пятиэтажный корпус, новый, еще без крыши; почему-то дома без крыши кажутся очень высокими, может быть потому, что глаз, сосчитав этажи, продолжает с разгона громоздить их выше и выше, до самого неба… У подножья этого нового дома, как озябшие куры, теснились, жались друг к другу щитовые бараки. Некрашеные стены их грязно чернели на фоне снежной белизны, кровли ощетинились сухостоем антенн. Дальше виднелся сквозной каркас строящегося универмага — только стекла витрин осталось вправить в огромные оконницы. За ним, вдоль берега, неряшливо раскинулась лесобиржа. По ту сторону реки выровнялась богатырская шеренга новых домов, но в шеренге одного не хватало, зияла брешь — там вросла в землю утлая хибара, над ее трубой курился независимый дымок. А еще дальше склон горы расчерчен в косую линейку, вдоль и поперек, так, и сяк, и эдак плетнями огородов. За огородами — башенные краны…
— Кошмар какой-то. Столпотворение… — сказала Ирина, досадливо отвернувшись от окна. — Уехать бы отсюда.
— Куда?
— Не знаю. Все равно… Лишь бы начинать город с самого начала, а не старье перекраивать.
— Это, что ли, Джегор — старье? — подивился Коля Бабушкин.
— Конечно. Половину города нужно сносить и строить заново. О чем вы только думали, когда все эти времянки городили?
Николай попробовал вспомнить: о чем они тогда думали?.. О разном. О тепле, например, думали, потому что сильно мерзли. О еде думали, потому что не было тут ни столовой, ни магазина. О выполнении плана думали. И за всем этим они как-то не успели подумать, что потом в Джегор приедет главный архитектор и станет сильно ругаться, увидев в центре города щитовые бараки…
— Нельзя коммунизм строить начерно, а потом перестраивать набело, — сказала Ирина. — Теперь уже поздно, понимаешь?
Николай кивнул. Чего тут не понимать. Правильно.
— Только мне кажется, — заметил он, — что сносить и перестраивать будут всегда. Допустим, уже при самом коммунизме какой-нибудь дворец построят, он постоит-постоит лет сто, устареет, и его тоже снесут: новый сделают, еще лучше…
Ирина внимательно посмотрела на Николая.
— Да, пожалуй… — сказала она.
Николай очень огорчился, услыхав, что Ирина собирается покидать Джегор. Для него это было как нож в сердце. Он сразу же решил, что нужно удержать ее здесь во что бы то ни стало.
— А если ты хочешь строить заново, — про-должил он горячо, — то есть одно вполне подходящее место, называется Пороги… Там начинают с самого начала. Целина.
— Пороги? Это в нашем районе. Я давно хотела побывать там.
— Нужно обязательно побывать, — подтвердил Николай. — Как раз там, на Порогах, и можно строить набело. Там все вокруг бело…
Он помедлил секунду и закончил:
— Только ты не уезжай… Не надо.
Едва заметным было ее движение — движение пальцев, сжимавших спинку стула и вдруг обмякших, движение тонкой шеи, по-птичьи вознесшей голову, движение плеч, качнувшихся вперед, — когда она услышала его просьбу и когда весь нехитрый смысл этой просьбы стал ей понятен. Вроде бы у нее возникло намерение к нему подойти, но она тотчас отказалась от этого намерения. Но движение было. Николай заметил его. Она, очевидно, тоже заметила свое непроизвольное движение, заметила, что он его заметил, — нахмурилась.