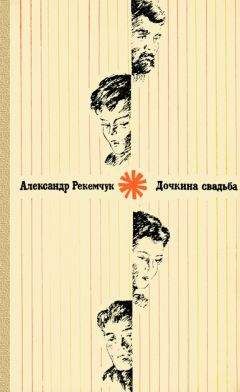Время рабочее. Табличка на двери. И вообще.
Ирина села к столу, схватилась за карандаш — как за соломинку.
Коля Бабушкин видел издали, как этот карандаш рассеянно скользнул по бумаге, отчеркнул размашистую линию, замер, опять черкнул, заходил чаще, мельче…
Но издали Николаю не было видно, что это она там черкает, — любопытно все же. Он поднялся с места, подошел ближе, встал за ее спиной.
Над городом плыли облака — затейливые и округлые. И, как будто в контраст этим округлостям, навстречу им поднялись прямые и четкие грани строений. Дома были неодинаковой высоты — один, как ферзь, маячил над пешками, два других стояли впритык, как ладьи в поединке: игра началась давно, фигуры нарушили первоначальный строй, разбрелись по полю, сгруппировались в неожиданных и острых комбинациях, почти в хаосе; но это был не хаос, а порядок — умный, точный, — и все прямые, все диагонали подчинялись живому замыслу…
Вот как она, оказывается, рисует. Замечательно рисует. И быстро. Должно быть, ее в институте научили так рисовать.
А где у этого дома фасад? Нет никакого фасада — у него на все четыре стороны фасад. Он весь пронизан светом. От дома к дому тянется стеклянный коридор… А улица где? Нет улицы. Вместо, улицы — сад. Чудной какой-то город: без улиц, одни сады…
Красивый город. Как в сказке. Вот если бы ей, Ирине Ильиной, сказали сегодня: ну-ка, быстрей свой город дорисовывай — начинаем строить. Согласно твоему проекту. Вон уж монтажники дожидаются дела… Если бы.
Однако выглядит город пока скучновато. Безлюдье. Все люди, наверное, дома сидят, в своих пронизанных светом квартирах, и ходят друг к другу в гости по стеклянному коридору. А вокруг домов — сплошное безлюдье, и в садах ни души… Что же это вы, товарищи, так скучновато живете? Вышли бы погулять…
Ага, наконец-то!.. На садовой аллее появилась парочка — он и она. Она в широкой, как зонт, юбке, темной блузочке, волосы коротко острижены и взлохмачены… Уж ты не себя ли нарисовала? Очень похоже… А рядом кто? Мужчина рослый — на голову выше ее, плечистый, представительный. В шляпе. На Черемныха смахивает…
Коля Бабушкин протянул руку, отобрал у Ирины карандаш.
И с боку — с другого боку от стриженой барышни — нарисовал человечка. Точка, точка, запятая… Ручки, ножки, огуречик…
Он не особенно хорошо рисовал. Его не учили в институте. И человечек получился довольно корявый. Но ничего, сойдет… Пусть они втроем гуляют.
Ирина обернулась, строго посмотрела на Николая. Вероятно, она рассердилась на него за испорченный рисунок.
Взяла резиновый ластик и принялась сосредоточенно тереть им бумагу. Стерла. Дунула.
«Ну вот, — подумал Николай с обидой, — нечета и сердиться. Это же проще простого — стереть да сдунуть… Это для тебя легче легкого».
Он еще раз взглянул на рисунок.
Над городом плыли облака. У подножья высоких и светлых зданий разметались сады. По садовой аллее шла девушка. Рядом с ней топал забавный малый ручки, ножки, огуречик… А того, в шляпе, не было.
— Молодец… «Козла» испек, — похвалил Николай Бабушкин Черномора Агеева.
Похвалил сдержанно. Сквозь зубы. Как привыкли уже в бригаде хвалить неумелого этого парня, когда он допускал очередную оплошку. А он каждый день их допускал, пять раз на дню. То сорвет резьбу с гайки. То недоварит шов. То еще чего-нибудь.
Но его никто не ругал за эти оплошки, потому что в бригаде каждый понимал — неумелый парень. Старательный, а неумелый. И его сдержанно, сквозь зубы, хвалили, а потом показывали, как надо делать.
— Вот это «козел»! — выразил свое восхищение Коля Бабушкин. — Умудриться надо…
Щеки Черномора Агеева горели от стыда.
А может быть, не от стыда они горели, а просто от жары. От немыслимого жара, пышущего из нутра печи.
Нутро печи пылало, как солнце, — слепило и жгло. Оно было круглым, как солнце. И, как солнце, медленно вращалось…
Вообще-то говоря, это была не печь. Это был обыкновенный асфальто-бетонный смеситель — двенадцатиметровая стальная труба, вращающаяся вокруг своей оси. Но Василий Кириллович Черемных, главный инженер завода, заявил, что лучшей печи, чем эта труба, не придумаешь. Что эта труба прямо-таки призвана быть печью. Во всяком случае, она должна быть печью. Поскольку другой вращающейся печи в наличии не оказалось.
Сказано — сделано. Монтажники Коли Бабушкина установили в цехе эту трубу, ввели в нее газовые горелки и воздушный компрессор. Вчера закончили. А сегодня начали испытание.
Приставили к печи Черномора Агеева — следить за температурой. Он-то и испек «козла».
Нутро печи пылало, как солнце, — глазам больно. Тысяча двести градусов. Пекло. И в этом пекле барахтался «козел»: бесформенная, раскалённая добела груда спекшихся глиняных комков. Она тяжело перекатывалась, громыхала, густо чадила…
Коля Бабушкин, отстранив Черномора, взялся за колесо регулятора. Крутнул колесо вправо. Сразу укротился, съежился, поджал хвост газовый факел. Внутренняя стенка печи, уже доведенная до белого каления, тотчас померкла, перешла в красный тон. «Козел», кувыркнувшись еще раз, рассыпался. Он рассыпался на сотни пунцовых угольков. И теперь каждый из этих угольков кувыркался сам по себе…
— Ну как? — послышался за спиной голос Черемныха.
Он опять здесь — Черемных. Он ушел минут десять назад и вот снова пришел. Он бы с великим удовольствием вообще никуда не уходил из этого цеха. Но на заводе был не один этот цех. Были на заводе и другие цеха. А также были разные совещания и заседания. А также телефонные звонки: «Где кирпич? Почему не даете кирпича?.. Даете? Мало даете…»
Если бы не другие цеха, не совещания, не телефонные звонки, если бы не все это, — Черемных, надо полагать, вовсе не отлучался бы из бригады Коли Бабушкина. Он бы тут дневал и ночевал. Тем более сейчас, когда шло испытание трубчатой печи.
— Ну, как? — спросил главный инженер, заглядывая в печь.
— Порядок, — спокойно ответил Николай.
— Порядок… — сказал Черномор Агеев. И отер ладонью пот со лба.
В печи был полный порядок. Эту печь установили с небольшим наклоном. И по мере того как печь неторопливо вращалась, пляшущие пунцовые угольки скатывались под уклон. Весь их путь из одного конца печи до другого конца печи занимал —
— Двадцать пять минут, — сказал Черемных, следя за секундной стрелкой часов.
Из горячего зева печи посыпались в бункер раскаленные докрасна гранулы. Они быстро темнели, остывали, гасли, исходя кисловатым дымком.
Черемных, не дождавшись, пока гранулы остынут совсем, выхватил одну и стал кидать ее из ладони в ладонь, как горячую картофелину. Даже дуть на нее стал, как на картофелину, печенную в угольях.
Между прочим, керамзитовая гранула и впрямь была похожа на мелкую семенную картошку.
Такой же формы и точно такого же цвета, и даже поверхность гранулы — вся в маленьких оспинах, похожих на картофельные глазки. Ни дать ни взять — картошка…
— Только легче, — заметил Коля Бабушкин, подбросив и поймав остывшую гранулу.
— Совсем легкая, как пух, — подивился Черномор Агеев, мусоля в пальцах керамзитовую гранулу.
— Легкая? — насупился Черемных.
Он швырнул гранулу в чан с водой. Булькнуло. Гранула пошла ко дну.
— Вот она какая… легкая. Ни черта не легкая! Ни черта… Должна быть легче, — угрюмо ругался главный инженер. — Отнесите в лабораторию… Пусть взвесят, — приказал он Черномору Агееву.
А сам вместе с Колей Бабушкиным пошел в другой конец цеха. Там было хозяйство Лешки Ведмедя — ленточный пресс. И Лешка Ведмедь занимался своим хозяйством: прочищал дырки в формовочной плите. Он старательно прочищал дырки и никакого внимания не обратил на подошедшего Черемныха, на его сердитое лицо. Это значило; «Ежели у вас что-то не ладится, если ваша трубчатая печь выпекает не то, что надо, — меня это не касается. Не моя вина. А ленточный пресс работает, как часы. Я его монтировал, я его налаживал, я за него отвечаю… Поищите слабинку в другом месте».
Лешка Ведмедь ревниво относился к своему хозяйству. И для этого у него были основания.
Проект Черемныха предусматривал формовку глиняных гранул на каких-то мудреных вальцах. А Лешка надумал использовать старый ленточный пресс, на котором формовали сырой кирпич. Заменить формовочную плиту — и все…
Черемных прямо-таки ахнул, когда Ведмедь изложил ему свою придумку. Он при всех назвал Лешку «гением». И выписал ему премию — полста рублей: И дал команду механической мастерской срочно изготовить новую формовочную плиту.
Но Лешка Ведмедь никому не позволил и пальцем дотронуться. Он сам раздобыл подходящую плиту, сам отправился в механическую мастерскую и сам просверлил в плите все до единой дырки. Сам смонтировал пресс. Сам наладил. И пресс у него работал, как часы.