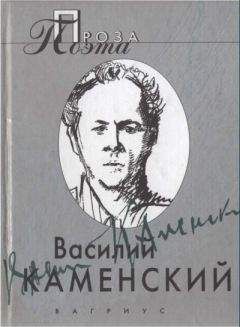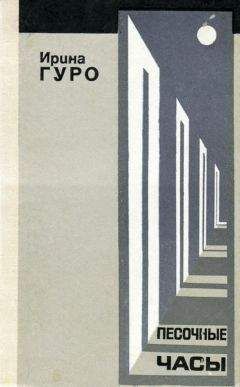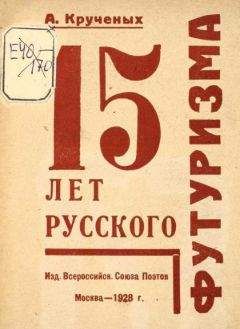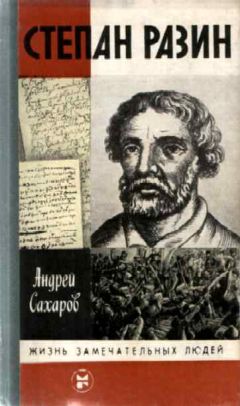До охоты еще было далече, и потому мы пропадали на озерах или на Каме.
Как-то после вечерней зари, когда чуть заскрипел коростель, мы захватили удилишки, пестерь, жестяной чайник, топор, мешочек с кормом для рыб, навозных червей и отправились (за 18 верст) на рыбалку, на Каму.
Иоиль не забыл взять черного хлебца и картошки, чтобы там на ночевке подзакусить…
Шагать довелось напрямик — через просеку.
Потом свернули влево, на лесную тропку.
А там выбрались на закамские луга.
Эх, луга, луга!
Раздольное, благоухающее царство цветов и травинок. Знай любуйся вокруг: как из зелени нежно поглядывают анютины глазки на стройный синезоркий василек, как фиолетовый колокольчик склонился над желтоокой ромашкой, как гвоздичка кивает красной головкой золотому лютику, как малиновая кашка…
Кто там розовый около нее? Плохо заметно — темно.
От опушки стлался легкий туман. Скрипели коростели, стрекотали стрекозы. Проносились с жужжанием ночные жуки.
Иоиль с Россом бежали недалеко впереди, но их было почти не видно — такая выросла высокая густая трава и такая цветистая, душистая, что хотелось броситься на нее, загорланить что-то веселое и кататься, перекатываться с боку на бок.
Ага! Вон уже засинела полоса Камы — надо было прибавить шагу, чтобы успеть смастерить заездок и хоть часок вздремнуть у костра.
На зорьке начнется клев — не зевай.
Добрели до места.
На берегу в кустах ивняка разыскали нашу деревенскую лодку и спустили в реку; и так приятно зашуршало по песку дно лодки.
Я принялся за заездок.
Раздобыл четыре жердины, завострил их на одних концах, нарубил ивняку, взял мешочек с кормом для рыб, сложил все это в лодку и поехал забивать заездок.
Мерно всплескивалась сонная гладь под веслами в ночной тишине, тихо поскрипывали уключины, глухо бурлила вода под лодкой.
Радостно напрягались мускулы.
Опытный глаз рыбака определил место для заездка.
Живехонько обухом топора я вбил в дно, недалеко от берега (поперек течения), одну за другой жердины. Потом переплел их ивняком, утолкал его веслом до самого дна и, спустивши мешочек с кормом, уехал обратно. Тем временем Иоиль и Росс успели натаскать сушины, развести костер и поставить на козелки чайник.
Дым тянулся красивой лентой вдоль берега.
Я свистнул и крикнул:
— Готово! — и вытащил лодку.
— Айда! — откликнулся Иоиль, — чичас и у меня все будет готово. Только вот не знаю, картошку всю испекчи али нет, а?
— Валяй всю!
Голоса так славно разносились по берегу, а вдали красиво горел костер и жарко краснелась у огня красная рубаха Иоиля.
Прибежал Росс, и мы вперегонышки пустились к костру.
Умный Росс, имея добрейшую душу, нарочно дал мне обогнать его, очевидно, желая доставить мне маленькое удовольствие.
Ну ладно. С толком мы почаевничали, поели картошки с черным хлебцем, малость поболтали о рыбацких делах и завалились вздремнуть до зорьки около костра и поближе к дыму, чтобы не лезли комары.
Но мне не спалось: так было чудесно спокойно вокруг и на душе.
Из сине-темной глуби неба смотрели звезды, а по лугам стлались легкие, как призраки, туманы, орошая цветы и травинки.
И тишина, тишина.
Только чуточку лепетали сквозь сон в ивняке шелесточки, да малюсенькие волнинки набегали на берег и едва слышно баяли:
— Плиль-лли… плиль-лли… плиль-лли…
А с лугов доносилось легкое стрекотание, сонное посвистывание и вспыхивали неясные звуки, какие-то ночные шорохи.
Эх, эта ночь на рыбалке!
Никакая другая ночь не походит на эту рыбацкую, нет, — так она своеобразна, своенравна, так она близка к каким-то добрым тайнам и так далека от всех забот.
И я люблю это безмятежное звездное спокойствие ночи, эту какую-то особенную прикамскую безмолвность, когда близость многоводного течения так странно-расплывчато отражается в прибрежно-луговой тишине.
Подходил рассвет.
Костер таял.
Иоиль и Росс дрыхнули вовсю. Приятно было смотреть на них. Иоиль, повернувшись к костру, скорчился калачом, подложив под голову свои лапти. А хитрый Росс воспользовался онучами, разостланными Иоилем для просушки, и благодарно сопел на них.
Хоть и жаль было тормошить этих двух спящих зверьков, но я все-таки заорал:
— Эй, Иоиль, Росс! Черт возьми, шабаш дрыхнуть! Нас ждет заездок. Эй, робя!
Иоиль и Росс вскочили.
Зевать было недосуг, и через три минуты мы уже отчалили на лодке к заездку.
Подплыли тихонько, чтобы не испугать рыбы.
Надели червяков на удочки, поплевали на них (так требовалось по рыбацким соображениям) и забросили лески в воду. Шептали:
— Господи, благослови. Рыба на уду, а черт в воду.
Иоиль вытащил первый — толстомордненького язенка, зато меня угораздило изловить первую рыбку — какого-то сопливого ерша, который, однако, нас развеселил. Даже Росс, что лежал на корме, не утерпел и засмеялся. Конечно, я выкинул эту сопливую добычу.
Через полчасика начался сильный клев — знай вытаскивай.
То и дело серебрились в воздухе язенки, окуни, подлещики, ельцы.
Наловили полведерный туес — довольно.
Из-за леса выплыло солнышко, и клев сразу прекратился.
Мы стали собираться.
Недалеко от нас проплыли скрипучие плоты. Новенькие бревна так и розовели от солнца. Сонный плотовщик в красной рубахе смотрел на нас; другие, должно быть, спали в своем берестяном шалаше, около которого теплился костерик и чернел неизменный чайничек.
Далеко из-за туманного верхнего изгиба Камы доносилось частое, гулкое хлопанье по воде — это где-нибудь шел пароход.
Над головой в лазури с криком пролетели, блестя на солнце, две снежно-белые чайки, о которых я в детстве почему-то думал, что, наверно, они очень любят пить чай…
Быть хочешь мудрым?
Летним утром
встань рано-рано
(хоть раз да встань),
когда тумана
седая ткань
редеет и розовеет.
Тогда ты встань
И, не умывшись,
иди умыться
на росстань.
Дойдешь — увидишь —
там два пути:
направо — путь обычный;
на нем найти
ты можешь умывальник
с ключевой водой,
а на суку —
прямой и гладенький сучок —
висит
холщовый утиральник
и на бечевке гребешок.
Раз приготовлено, так мойся,
утрись и причешись,
и богу помолись.
И будешь человек приличный,
и далеко пойдешь всегда,
когда на правый путь свернешь,
помни. Это ведь — не ерунда.
А вот налево — путь иной:
налево не найдешь
ни умывальника, ни утиральника;
там надо так:
коли свернул ты на левянку,
беги во весь свой дух
на росную, цветистую полянку.
Пляши, кружись и падай.
И целуй ее, целуй,
как верную, желанную милянку.
И опять пляши, кружись.
Снова падай.
Чище мойся!
И не бойся:
солнце вытрет сухо
мокрое лицо.
Только вытряхни из уха
муравьиное яйцо.
Только выплюнь
(а то подавишься) —
колючую сенинку,
а душистую травинку
на здоровье съешь.
Быть хочешь мудрым?
Летним утром
встань рано-рано
(хоть раз да встань)
и, не умывшись,
иди умыться
на росстань.
Намедни я захватил топор, бечевку и побрел в сосняк устраивать себе ночную спалку.
В землянке спать надоело.
Выбрал самую высокущую сосну на опушке, низко отвесил ей поклон и взобрался на нее.
На самом верху кроны нашел подходящее место.
В развилье двух громадных сучьев я принялся вить себе ночное гнездо.
Не раз пришлось слезать обратно наземь и карабкаться снова: то понадобятся лиственные ветви, то трава, то топор упадет — поднимай.
Сучья крепко переплел ветвями, перевязал бечевкой, настлал травы и — спалка готова. Чудесно.
Хотя было довольно поздно, но сон что-то не накатывался на новоселье.
Плавно, упруго покачивались ветви, убаюкивая меня. Смолистый воздух сосны перемешивался со свежей травой.
Было немножко странно очутиться вместо привычных низких нар на высокой зыбке между небом и землей, но это, очевидно, было только для первой ночи, так как прежде не раз я устраивался с таким же удобством, где-нибудь по соседству, и прекрасно спал.
Пронесся сыроватый ночной ветерок, и приятно закачало.
Потом настала такая тишина, что казалось, будто все кругом приготовилось кого-то внимательно слушать. Уж не меня ли?
Я смотрел на сине-темное, безлунное, ярко-звездное небо, долго смотрел и улыбался одной игривой звездочке, что лучистее и больше была других подруг. Долго улыбался ей.