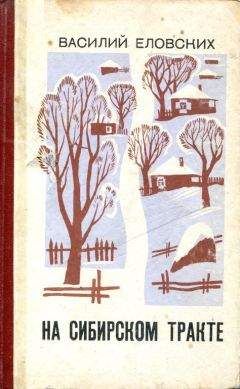Когда даешь работу Мосягину, он отвечает коротко: «Ясненько! Сделаю». Глядит кротко, а краешки губ книзу ползут, и все кажется мне, что он усмешничает, что у него свое на уме.
Рассказывал в цехе рабочим:
— Тятька мой батраков не держал. Только хлебушко убирать и сено косить кой-когда нам мужички помогали. Сами мы с тятькой вкалывали до седьмого поту и жили ничего себе, справно. Ну, а когда раскулачивать начали и смута пошла, распродал все тятька и — теку. Вдруг да и раскулачат, чё мы дураки ждать-то. Ха-ха!..
Не думаю, что Мосягин любил господ-капиталистов и помещиков, они ему ни к чему. Его самое большое ругательство: «У-у, бары паршивые!» Он мог так сказать и о рабочем-лодыре, и о чванливом начальнике, и о богатом человеке. Но душа у Мосягина была самая что ни на есть кулацкая.
Сейчас Митька и одеждой и всей наружностью смахивал на рабочего-новоуральца. Даже голос... Шарибайцы в старину говорили громко, почти кричали. И не от злости, не от дурного характера. Привычку эту приобрели в шумных цехах, где без крика не обойдешься. У прокатных станов такой грохот, что хоть заорись — никто не услышит. Видно, как человек разевает рот, а что говорит — не поймешь. Вот и кричали прямо в ухо, изо всей силы. Привыкали к крику. Металлургу, как сплавщику, нужен был сильный голос. Мужчинам подражали бабы, детишки. Послушаешь — спорят вроде бы и даже ругаются. А на самом деле нет. Митька разговаривал поначалу тихо, спокойненько, с расстановочкой и вдруг перестроился, тоже начал говорить громко, слегка растягивая слова, как кондовый шарибаец.
Мосягин втирал очки. На первый взгляд вроде бы во всю силу работает мужичок: не курит, на сторону глаз не пялит, инструмент на месте, резцы заправлены, станок в ходу. Во всем порядок, везде чистота. Но даже издали я заметил, что Мосягин валяет дурака. Играет, как на сцене.
Увидел меня, недовольно мотнул головой и остановил станок. Будто бы резец переменить. Хитрюга! И меня надуть хочет.
Говорю девушке:
— Не получится у вас, Аня, хронометража.
Аня с недоумением посмотрела на меня. Мосягин заершился:
— Почему это?
— Потому самому. Девчонку за нос водишь и меня решил тоже... Надо увеличить подачу да и обороты. Резец у тебя нормальный, пускай станок-то, пускай. А ну: раз, два, три!
Мосягин даже подпрыгнул от злобы.
— Которая у него стружка? — этот вопрос я задал Ане.
— Пятая. Последняя.
— Охо! Можно завершать на третьей.
— Опробуй сам. — Краешки губ у него опять насмешливо подались куда-то книзу, но тут же выпрямились. А как глядит! Думаете, нагло или сердито? Ничуть. Будто телок — спокойненько, даже ласковость во взгляде. Моргает вяло. Могут же люди так!
Приводной ремень у станка порвался и рваным концом шлепал по шкиву. Шлепки получались забавные, совсем человечьи. В другой раз Мосягин исстонался бы, требуя у шорника новый ремень, а сейчас помалкивал.
— Ну, что ж, попробую, — сказал я. — Завтра на твоем станке и попробую. Вместо тебя.
Хитрый черт этот нарочно замедлял обточку детали. У него свой расчет: будет заниженная норма — подскочит заработок. Все у Митьки соткано из лжи, спутано ею.
Вечером спросил у дочки: что с Аней?
— Любовная лодка разбилась о лед, — пропела Дуняшка.
— Пояснее давай. И не крутись, если разговариваешь с отцом, а то понужну вот! — шумнул я.
— Да, с кавалером...
— А как кавалера звать-величать?
— Шахов.
— Наш?
— Чей же еще! Не пойму я их, слушайте. Его больше всего не пойму. Аня жалуется, что он... будто бы стыдится ее. А ведь она и грамотная, и красивая. Столько парней за ней ухлестывало. Любит вроде бы и прячет любовь свою. Это ее здорово обижает. Она ведь порядочная, Аня-то. А теперь он вроде бы и вовсе в сторону.
И в самом деле, я не раз замечал, как Аня шушукалась с Шаховым, терлась возле него, заглядывая в глаза, как преданная собачка.
— Он что, обгулял ее?
— Постыдился бы, еретик, говорить такое! — ухнула из кухни жена.
Дуняшка передернула плечами: что, дескать, пристаешь, откуда мне знать.
Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Назавтра встал я к станку Мосягина. Немножко не по себе было мне. Конечно, я станки знаю и на многих работал когда-то. Но это было когда-то. Мастер есть мастер, он навроде барина по цеху ходит. А станок, тот, как умная лошадь, знает руку хозяина, ловкая хозяйская рука и для станка и для лошади легче перышка.
Ночью худо спалось, мысли суматошные одолевали, думал, как бы получше все сделать. К мосягинскому станку подошел за полчаса до начала смены, подготовил инструмент, в победитовой пластинке резца фазку сделал, то есть выемочку, желобочек, чтоб стружка посвободнее выходила. И только гудок загудел, я включил станок. Подачу суппорта и обороты шпинделя довел, как мы заводские говорим, до наибольшего предела. Суппорт и шпиндель — это части станка; в шпинделе закрепляют обрабатываемую деталь, а в суппорте — режущий инструмент, по-заводскому — резец. Резец с деталей стружку снимает, сдирает как бы. Не курил, лясы не точил, по цеху не болтался и рот зевотой не раздирал — ни одной минуты простоя, как говорится.
Резец быстро-быстро скользит по детали, отбрасывая тонкую игривую стружку, станок гудит ровно, спокойно, и на душе у меня становится весело-весело, хоть песню пой. Нет, думаю, токарем я еще могу быть! Могу! Обработку поршня закончил на третьей стружке.
Скучновато слушать о наших токарных премудростях. И потому скажу коротко: дал я две с половиной нормы за смену.
Выключил станок, ноги и руки дрожат, как у закоренелого пьяницы, так ухайдакался. Отвык, размягчились кости-жилы. Но дрожь такая только новичков цапает, на вторую, третью смену поборол бы и ее.
Говорю Мосягину:
— Видел?
— Видел.
— Ну, вот так, милый, и робь.
Мосягин работал во вторую смену, в тридцатые годы она заканчивалась в десять вечера.
На улице лихая февральская вьюга. Центральная площадь в мягком и чистом снегу. Площадь эта, большая и ровная, казалась мне похожей на озеро, особенно весной, когда вместо снега оставалась лишь темная ледяная корка. Ветер нес снег по площади, без конца сердито глодал и глодал ледяную землю, возле каменных стен крутился как волчок, бросался то туда, то сюда, и в бессильной ярости устремлялся к небу. Острые, злые снежинки и сумасшедший, будто хмельной, ветер славно холодили лицо. Легко, покойно на душе стало. С детства люблю я почему-то такую сумасбродную погоду. А у Кати — совсем другое, ей подай погоду тихую, чинную, рождественскую, чтобы дым столбом тянулся к небу. На тему эту мы с ней спорили кое-когда. Я представил себе, как, переступая порог, проговорю фальшиво весело: «Погодка-то хороша», а жена недовольно хмыкнет: «Хуже б, да некуда». И тут...
Из старого кирпичного дома, где жили в царскую пору конторщики, а теперь — инженеры, бабий крик раздался, приглушенный, болезненный.
Электролампочка у подъезда раскачивается на длинном шнуре, а в ее красноватом свете бегают люди, мечутся тени, снег кружится — картина тревожная. Жизнь нередко преподносит нам сказочные картины. Я видел однажды закат. Над горами, где спряталось солнце, небо окрасилось необычно яркими, какими-то пронзительно яркими красными, белыми и черными цветами, внезапно переходящими друг в друга. Если бы художник нарисовал такое, я не поверил бы.
К подъезду, бибикая и тарахтя, как разбитая телега, подъехала старенькая легковая. Врач. «К Миропольским!..» Почему к Миропольским, я не мог бы сказать, но был почти уверен. Так и оказалось.
Подбежал, помог внести в машину Миропольского. Глаза его были закрыты, он тихо постанывал. Голосила жена Льва Станиславовича, что-то бормоча и без конца спотыкаясь. Откуда-то Шахов появился — он часто появлялся неожиданно.
Мы увезли Миропольского в больницу.
Врач поморщился, покачал головой:
— Серд-це!.. С таким мотором надо осторожно.
На улицу я вышел с Шаховым. Может быть, я излишне подозрителен, черт-те что чудится мне, но... Шахов, по-моему, недопустимо спокойно, равнодушно воспринял болезнь Миропольского. Неприятно было слышать его уверенный басок.
Возле пруда шел пьяный. Орал на всю округу:
— Ре-в-в-ела бур-ря, дождь шумел,
Во мыраке молнии летали-и,
И бес-пре-рыв-но гром гремел
И ве-е-етры в дебрях бушевали-и-и...
Это токарь-обдирщик из нашего цеха Василий Тараканов, по прозвищу Рысенок.
Василий — лицо в Новоуральске известное. Ухарь парень. Весельчак, гуляка и не дурак выпить. Жердястый, гибкий, крепкий. На смазливой физиономии выражение лихости, насмешливости, брови вызывающе-сурово сдвинуты: вот-вот ринется куда-то, сваливая все и круша. Одевался чисто, нарядно, даже моднее инженеров. Тогда брюки с широкими штанинами начали носить, у Василия они были шире всех, штанина о штанину бьет, издали на юбку похоже: не поймешь, то ли баба, то ли мужик шагает. Гулять в шляпе ходил — редкостное дело для тех времен.