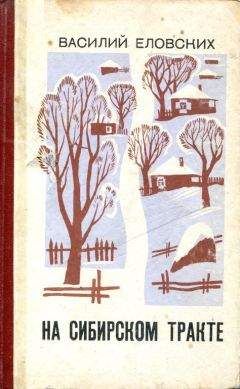— Видал, как отмахивается.
Но это был стиль. При необходимости начальник цеха мог заняться каким угодно делом: к примеру, проанализировать работу молодого токаря или проверить, как рабочие после смены протирают станки.
Говорил мастерам:
— Не бегайте по цеху, как оглашенные. И если уж начали в чем-то разбираться, разбирайтесь основательно.
Не запоздает ни на минуту. Дисциплина была у него в крови. «В дисциплине — основа успеха. Дисциплинированный рабочий не будет шататься по цеху, болтать с соседями, он все сделает, как надо. Только за счет одной дисциплины мы сможем намного увеличить выработку».
Поклонялся дисциплине, порядку и точности, как богам. Говорил легко, будто семечки щелкал, простыми мужицкими словечками, со смешком, ругнется раза два забористо. Очень нравилось рабочим, как он выступал: хохотали, аплодировали, взбадривались. Голос громкий, твердый, чистый и какой-то легкий, живой. В словах убежденность, уверенность, а это здорово действовало на людей.
Выступал Шахов на каждом заводском собрании и почти на всех городских — крепко к говорильне приохотился. Трибуна была для него привычна, как стол в конторке. А ведь чем чаще выступает человек, тем больше его знают, тем больше уверяются в его знаниях, смекалке и работоспособности. Иные болтуны только тем и жили. Надумает начальство человека за безделье снять, ан нет, смотришь, кто-нибудь да словцо за него вкрутит: «Что вы, он же такой активный товарищ, на собраниях выступает, умен и в политике силен». А болтун, тот работать не умеет, умеет только выступать. Шахов выгодно отличался от других трибунщиков: не было у него общих рассуждений.
Зайдешь в конторку — над листом бумажным колдует, опять выступать собирается. В редакции районной и областной газет позванивал. Имя его частенько мелькало в газетах, на самом виду стал человек. Трибунная активность Шахова мне было как-то не по душе, хотя я понимал: это верный путь к популярности.
Лучшим стахановцам всяческие почести оказывал, за руку здоровался, в столовую и клуб вместе с ними ходил, беседовал как с ровней. Многие за него стояли горой.
На новой должности Шахов раскрылся, его увидели.
Страсть как любил рекорды. И рекордишко-то порой маленький, какая-нибудь лишняя деталька, а шуму!.. Сразу же сам с профоргом, слесарем Прошей Горбуновым, фанерный лист у входа в цех начинал приспосабливать. На фанере надпись: работайте так, как стахановец такой-то! Это тоже имело резон: для рабочих пример и начальство видит.
Окна в своем кабинете Шахов раскрывал настежь, хотя весна была холодная, сырая, промозглая. Рабочие, особенно девки, дивились, ойкали:
— Начальника цеха не видели? — кто-нибудь спрашивал.
Отвечали с довольным смешком:
— В морозильнике.
Уволил двух сменных мастеров. По цеху шумок прошел: «За что?» Мастеров считали работягами, они старались. Но как старались? Смотрят в рот начальнику цеха и мне, ждут, что же мы скажем. Дадим команду — выполнят, а своей инициативы не проявят. Разве что по мелочам. «Начальник цеха об этом не говорил». «А я не знал, откуда я мог знать?»
И вот странно: в помощники себе Шахов взял техника, молоденького, вялого, робкого, который всюду тянулся за ним бледной тенью. Люди диву давались: зачем ему такой помощник?
Руководитель часто кажется подчиненным умнее, чем он есть на самом деле. Не замечали? В этом что-то непонятное, но факт. Видимо, подчиненные находят, вернее сказать, стараются находить в его речах, манерах, во всем поведении что-то необычное, значительное; циркуляры, не им продуманные, а «спущенные» сверху, указания «вышестоящих организаций» воспринимаются людьми как «плоды труда» их собственного начальника, хотя бы частичные. И вообще хочется верить, что «наш-то, наш-то куда лучше ихнего», — уж такова природа человеческая. Шахов же давал немалую пищу для таких преувеличений.
Культпоходы, экскурсии устраивать начали, в шахматы состязаться, по бегу соревноваться. Шахов наталкивал: «В здоровом теле — здоровый дух». С парнями на лыжах катался, в заводских соревнованиях по бегу на лыжах второе место занял. Старики смеялись: «Не солидненько, Егор Семеныч. Поди, не шешнадцать лет». — «Стар гриб, да корень свеж».
Других понукал: «Давайте, давайте!», и сам в ускоренный ритм вошел, стал быстрее ходить, быстрее говорить и даже ел на ходу, едва прожевывая. О нем спрашивали: «Куда убежал?»
Я уже казнил себя мыслями: зря был так подозрителен к Шахову.
Дочка говорила:
— Слишком уж быстрый Шахов наш. Не скажу, что торопится. Слово «торопится» не подходит к нему, такому важному. Но живет он все время в каком-то ускоренном темпе. — Усмехнулась. — Все делает быстро, даже стареет. Разве скажешь, что молодой. Под пятьдесят. Морщины. Фу!.. Будто куча детей. Вчера видела его в клубе. Идет деловито так это, как на работу. Смехи! Есть ли смысл жить так?
Сама Дуняшка тоже была для меня загадкой: порой по-детски наивна, без причины хохочет и вдруг такую подпустит философию — не сразу поймешь.
Туманным утром, когда с неба сыпал мохнатый мокрый снег и была грязь непролазная, начали кладку стен для обдирки. Я сказал:
— Подождать бы, Егор Семенович.
— Чего?
— Да погоды хорошей. Не на пожар ведь...
Усмехнулся. Не издевательски, а так, будто разговаривал со школьником, любознательным и несведущим. Смотрит, как всегда, в упор, настойчиво.
— Ну, пусть хоть обсохнет. И надо бы получше продумать все. Земля тут не одинакова, кое-где слишком мягкая, еще осадку даст.
— Все продумано, все идет, как надо, — прервал меня Шахов. — Тянучка в таких делах недопустима.
Опять «тянучка». Слово это показалось мне неприятным, как мокрица. Бывают неприятны слова, песни, мелодии лишь потому, что их произносят, поют, исполняют неприятные нам люди. Редко, но бывают...
— Новый корпус должен быть закончен к осени, — быстро и резко проговорил Шахов.
Какие у него богатые интонации.
Мастера из других цехов говорили: «Силен, мужик, язви его! И упрям он у вас, видать». Упрямство в нем я заметил, когда Шахов был еще мальчонкой. Дом отца его на берегу Чусовой стоял, на обрыве. И мальчишка с того высоченного обрыва на лыжах сигал; кувыркнется раза два-три, люди пугаются, думают — шею сломал, а он вскакивает хоть бы что, и глазенки сверкают. А раз было... Приехал из института, на побывку, в стужу рождественскую. Пробежал четыре версты от станции. Дома снимает ботинки, снимает, а они не снимаются — примерзли к ноге. Дерг-подерг — не снимаются да и все. Дерганул, что есть силы, и кожу с пятки содрал всю начисто. Мать плачет: «Плюнь ты на учебу ету». Нет, дня через два опять на станцию побежал, с палкой, прихрамывая. Да и упрямство ли это?
Вот такой он смолоду был, Егорка.
Настоящее имя у Шахова Генрих. Не знаю, зачем родители, простые люди, наградили его иностранным именем. По-русски оно звучит как-то слишком мудрено. Самому Шахову имя не по душе пришлось, и он в институте переделался в Георгия, а на заводе — в Егора.
В обдирке ближний к двери станок не работал. От него в холодном утреннем воздухе пар струится, как от тарелки с горячими щами. Возле станка Василий Тараканов, начальник цеха и бригадир обдирочного. Рядом с бравым Таракановым начальник цеха и бригадир выглядят замухрышками. У станка гора блестящих обточенных труб.
— Нужны новые мощные станки, — Шахов резко рубанул воздух рукой. — А то тянучка окаянная получается. — Он недовольно стукнул по станку кулаком.
— Да, — согласился Василий и добавил: — Около четырех норм выколотил. А если б телега эта не остановилась, то и все пятьсот процентиков выгнал бы.
— Сегодня же напишу статью в «Правду», — сказал Шахов. — Разделаю конструкторов в пух и прах. Что за станки? Гробы какие-то. Разве можно такие станки выпускать? — Он грубо выругался. — Ну, поздравляю вас, товарищ Тараканов, с новым рекордом!
Шахов торжественно потряс костистой белой ручонкой огромную темную Васькину пятерню.
— Если б мне станок настоящий, я б громыхнул!
— Что со станком? — спросил я, хотя с первого взгляда все понял.
— Шестеренки полетели, — ответил Василий. Голос недовольный. Можно подумать, что это я поломал шестеренки, а не он. Тараканов имел скверную привычку со всеми, кроме начальника цеха, говорить слегка насмешливо, снисходительно или недовольно.
— Плохо дело.
— Что ж... не плакать же от огорчения. — Шахов сказал это тихо, холодно вежливо. Кольнул меня взглядом. — Заменим шестеренки.
Часа через два у входа в механический был выставлен метровый лист фанеры с надписью: «Слава токарю В. Тараканову! Сегодня он выполнил норму на 395 процентов!»
Я зашел в «морозильник». По рябому лицу начальника цеха будто тень прошла, поджал толстые, выпяченные губы.
— Не надо бы нам о Тараканове так сильно шуметь.
— О каком шуме вы говорите?
— Доску вот выставили...
— А!.. Рекорд есть рекорд, он должен быть отмечен.