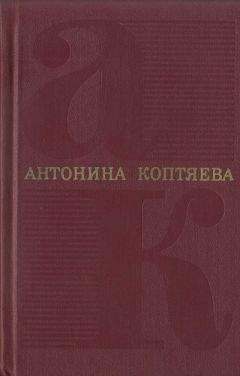Третья ночь на вахте была еще труднее: люди изнемогали от усталости, но только перед рассветом, когда затих на минуту рев бурана, донесся шум трактора — пробивалась на буровую смена.
Мутно желтели сквозь снежную замять фары трактора, нырявшего в сугробах. Как он нашел в такую метель дорогу к вышке, затерянной среди степных увалов: еле мерцает звездочка фонаря, горящего на ее вершине, не разглядишь и вблизи.
Но добрался трактор, подтащил крытые сани к будке, куда по очереди бегали отогреваться буровики, — прибыла смена и еду привезли, даже спирту по сто граммов на душу. Около десяти часов блуждали по степи, израсходовали все горючее; в одну и ту же деревню два раза заезжали. Кое-кто пообморозился малость. А тракторист… Окруженный шумной ватагой, натискавшейся в будку, словно спит он, стоя, неподвижный, как в коробе, в распахнутом негнущемся тулупе с высоко поднятым воротником.
Самедов налил из фляжки спирту в граненый стакан, разбавил водой, поискал взглядом тракториста.
— Эй, герой! Тебе первую чарку! — Но рука дрогнула, чуть не выплеснул драгоценную влагу. — Это ты, Зарифа? — сказал Джабар радостно и смущенно. — Все-таки не ожидал я… Вот отчаянная головушка!
— Нас вчера утром посылали, да не пробились мы, плутали долго и вернулись обратно, — сказал сменный бурильщик. — Не удалось и сегодня — шибко мело днем. Здренко лицо и ноги обморозил, сейчас в больнице. Жена его страшно голосила: «Чтобы ты, — кричит, — совсем закоченел в этих проклятых степях!»
— Дура она! — Ярулла тоже не мог совладать с волнением, вызванным отвагой Зарифы. — Муж ради товарищей старался…
— А ей что! Она давно заладила: домой да домой! У нас, мол, вишни, яблоки, вареники со сметаной, сало в ладонь, а здесь мороженая картошка вприглядку. Да еще бураны! Словом, увезли Здренко в больницу, останется теперь культяпым.
Джабар Самедов мрачно слушал, все еще держа стакан в руке, потом спохватился:
— Что вы тулуп-то не снимите с нее? Тихонько, может, она тоже застекленела от мороза. Выпей, Зарифа! С холоду это нужно… очень даже полезно, — непривычно мягким голосом добавил он.
Зарифа приняла стакан, залпом выпила и задохнулась. Помахала ладошкой в открытый от ожога рот, даже слезы заблестели на ресницах, щеки загорелись румянцем. И только согрелась, сразу повеселела, перенесенные трудности показались уже не страшными. Довезла смену, хотя отчаяние не раз охватывало ее сегодня, пока она не разглядела сквозь сумятицу снежных вихрей слабо освещенный силуэт вышки. А сейчас люди шумели в теплом укрытии, хвалили ее, готовясь к новой схватке с бураном:
— Теперь жить можно!
47
— Слушай, брось ты своего Магасумова! Что ты прозябаешь с ним? — Самедов подсел к Зарифе, уснувшей было возле пышущей жаром железной печки, склонился к ее изголовью. — Ты меня совсем с ума свела, красавица! Раньше я смеялся: не верил, что на свете есть любовь. А теперь присох к тебе сердцем. Да как! Попробуй оторвать — кровь хлынет.
Вошедший в будку Ярулла, у которого от усталости пол качался под ногами, окаменел у двери, услышав слова мастера. Не привык Самедов скромничать, плевать он хотел на то, что буровики услышат его признание Зарифе.
Крепко захватила она его! Сначала он присматривался к ней, потом, будто невзначай, стал чаще попадаться на глаза, заговаривал, шутил, пытался оказать помощь, теперь полез на рожон. И окажись тут сам Магасумов, заведующий лавкой или почтой (шут его знает, чем он там заведует!), наверно, и при нем не стал бы Джабар прятать свои чувства.
— Иди за меня! Нет у меня сейчас ни богатства, ни удобного жилья, но отыщем мы здесь нефть! Все тогда тебе предоставлю. Любить буду, на руках носить буду! В грязь лягу, чтобы ты могла пройти посуху своими маленькими ножками. Мне без тебя зарез, тоска-удавка! Гулянки бросил, водку бросил. Одного хочу: вместе с тобой быть. Ночью приснишься, обниму, сожму, а проснусь — хоть волком вой. Вот что ты со мной сделала!
Ярулла кашлянул, и не нарочно: в горле у него пересохло, но Джабар Самедов даже ухом не повел — прикованно смотрел на Зарифу. А она молчком отвернулась да прикрылась просторной полой тулупа, только и всего.
— Что скажешь, голубушка моя? — впервые в жизни со страхом спросил Самедов. — Чую — не люб тебе старый муж.
— Иди ты к черту! — неожиданно резко бросила она, беззащитно хрупкая перед глыбой — Самедовым. — Чего ко мне привязался? Муж! Муж! Может быть, я живу с ним себе в наказание!
— За что же такое наказание? — потерянно спросил мастер.
— За глупость свою.
Зайдя с другой стороны, чтобы лечь на свободное место (ох, и крепко храпели усталые буровики!), Ярулла увидел, какую терпеливую покорность выражало печальное лицо Джабара. Совсем не самедовское то было выражение!
«Не будешь про людей зубоскалить!» — без тени злорадства подумал Ярулла, охватываемый все большим сердечным волнением, и стал укладываться спать на полу. Домой сейчас не доберешься, придется уснуть здесь — и снова на вахту. Но разве можно уснуть, когда тут такой разговор? Ну и Зарифа! Закрутила даже беспутного Джабара и перекроила на свой лад. Главное, мимоходом закружила, будто нечаянно (хотя, конечно, давно уже все приметила). Не нужен он ей. Но и о себе вдруг раскинул умом Ярулла: не ради ли Зарифы лезет он из кожи вон, стремясь отличиться в работе? Не мог он смириться с тем, что отстал от нее, и, пожалуй, в этом сказывалась самая большая любовь, на какую он был способен.
— Эту телятину ты выбрось из головы, — не собираясь отступать, продолжал Самедов.
— Какую еще телятину? — Зарифа с досадой выглянула из-под своего укрытия. — Что ты тут урчишь над ухом, вздремнуть не даешь? То брось, это брось! Было бы из-за кого бросать! Туда же: «В грязь лягу!» На сухом-то месте покоя не даете! Отойди! Не люблю я тебя.
И она снова отвернулась от Джабара, зарываясь в теплую овчину. Презрение, прозвучавшее в ее голосе, взорвало норовистого азербайджанца. Даже в движении плеча Зарифы уловил он что-то оскорбительное для себя, шагнул, рывком поднял ее на руки вместе с тулупом и почти закричал:
— Ты слушай меня! Зачем отворачиваешься?
Возмущенный Ярулла так и вскинулся с места.
Буран неистовствовал, метал в окошко пригоршни сыпучего снега, завывая от злобы и шаркая по крыше, — точно мерзлый брезент протаскивал, — старался опрокинуть стоявшую на его пути избушку на полозьях, дерзко метавшую ему навстречу дым и горячие искры. Сердился буран, а люди, укрывшиеся от его ярости, только крепче храпели, убаюканные мощным шумом, и никто, кроме Яруллы, не увидел, как стоял под тусклой лампешкой Джабар Самедов, держа маленькую женщину на черном крыле тулупа.
— Как ты смеешь обижать ее? — заорал Ярулла.
— Я не обижаю. Я говорить с ней хочу, — со страстной запальчивостью ответил Самедов. — Не голыми руками ее схватил… Она сама на это вызвала: разговаривает, будто с паршивцем!..
Зарифа, пытаясь вырваться, гневно двигала плечами, вертела головой, словно пойманная дикая птица. Когда Джабар зазевался, вступив в спор с Яруллой, она высвободила руку, но не ударила мастера, а прижала кулак к своему подбородку, удерживая улыбку. Глаза ее, устремленные на Низамова, спрашивали: «Ты заступаешься за меня? Ты ревнуешь?»
Самедов умолк, растерявшись от ее неожиданной улыбки, но сразу все понял, с усилием разжал руки, отпустил Зарифу и, тяжело ступая, пошел к выходу.
Она поправила растрепавшиеся волосы, пытливо посмотрела на Яруллу.
— А ты? А тебе я нужна? Вот заступился… Он мог убить тебя!
— Не убил бы! Я с ним уже схватывался, — заносчиво от стеснения перед ее требовательной прямотой ответил Ярулла.
— Но почему ты заступился?..
— Потому что это, понимаешь, безобразие — обижать женщину.
— Значит, если на моем месте была бы другая?..
— Все равно не стерпел бы.
— Все равно?! — Зарифа закусила губу, но молчать не смогла. — Скажи, ты меня совсем не любишь?
— Ну, это, понимаешь, не имеет значения, — попытался уклониться Ярулла. — Ситуация, понимаешь, серьезная: я человек семейный.
— Но если бы я согласилась, чтобы ты не рвал семейные отношения?
— Так я тоже не могу: надо же сознание иметь! В партию хочу вступить. Да и ты комсомолка. Нельзя нам такие игрушки устраивать. Несерьезно получится.
— Рассудительный ты… — В душе Зарифы боролись обида и невольное уважение. — Словами от самого себя заслоняешься, даже не чувствуется, есть ли у тебя сердце! Самедов — тот, по крайней мере, огонь! С ним шутить опасно. А ты… Ты в самом деле телятина! Не зря Джабар обозвал тебя так.
— Он привык легко жить — точно ветер в степи, на всех набрасывается. Ни за кого не отвечает, никто его за полу не держит, а у меня жена вторым беременна.
— Выходит, ты с ней только для того и живешь, чтобы детей производить?