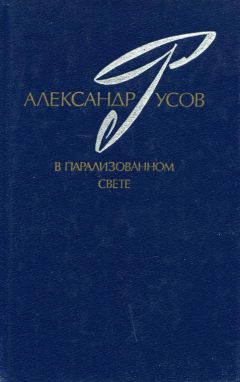Но кто управлял ферментами? Кто сначала мешал, потом помогал Валерию Николаевичу в его общении с сыном?
Продолжая бороться с собой, Валерий Николаевич как молитву повторял про себя: «Все-таки она вертится! Все-таки она вертится!» — а жестокий огонь костра уже лизал ступни его ног. И вдруг, когда последняя надежда на спасение была утрачена, хаос отступил, мысли обрели порядок, силы вернулись. С непостижимой еще недавно легкостью он записал первую фразу письма: «Дорогой сын!»
«Дорогой сын!» — глубоко взволнованный, написал Валерий Николаевич, после чего резко выдохнул воздух, и душу его, исполненную смирения, охватила грусть. Он благоговейно прислушался сначала к себе, потом к тишине лабораторной комнаты. Все суетное, ложное теперь отступило куда-то. Позорно бежали с поля боя всадники, колесницы, голые женщины. Все четыре жены Валерия Николаевича слились в одну, а принципат Августа на глазах потерял обличие адского вертепа, обретя академические формы назидательного исторического примера. «Общий тон твоего последнего письма расстроил меня…»
Благостное тепло разливалось в груди, растекалось по всем членам, точно прохладной ночью он сидел у жаркого костра и записывал то, что диктовал ему кто-то невидимый…
«Дорогой сын!
Общий тон твоего последнего письма расстроил меня. Я уловил в нем враждебность к «научникам», чьи ряды, если не ошибаюсь, ты и сам собираешься пополнить в скором времени. Только не пытайся убедить меня, что науки гуманитарные и естественные — суть вещи разные. Самим насмешливым определением ты как бы проводишь грань, разделяющую истинно необходимые человеку знания и те, другие, которые, по-твоему, приносят уже больше бед, нежели пользы, ставя под угрозу саму возможность жизни. Но ведь и в древнем мире вопрос о гибельном воздействии человека на природу заставлял трепетать чуткие сердца. И тогда вопрошали: сколько же лет осталось жить нашей несчастной земле? Как видишь, она все еще вертится.
«Никогда вопрос не стоял так остро», — пишешь ты. Не стану утверждать, что опасности не существует, но преувеличивать ее так же нелепо, как и преуменьшать. В определенном смысле природа умнее человека, ибо гораздо старше его. Она только кажется беззащитной. Губя природу, человек, малая ее часть, губит прежде всего себя. У нее же всегда найдутся такие запасные выходы, потайные убежища, аварийные клапаны, о которых, скорее всего, никто из нас просто пока не подозревает. Она хитрее и сильнее нас. Попытаемся же сделать жизнь разумной, вместо того чтобы присоединяться к глупцам, кликушествующим о конце света или благодушествующим за счет будущих поколений, то есть обеспокоенных сиюминутным и не заботящихся о вечном.
Как известно, два препятствия стоят на пути истинного понимания вещей: стыд, наполняющий душу, словно туман, и страх, который перед лицом опасности удерживает от правильных смелых решений. Самое простое, распространенное лекарство от стыда и страха — это глупость. Неужели ты всерьез полагаешь, что лишь «гуманитарии» знают, в чем больше всего нуждается человечество, кто губит природу и кто спасает ее?
Пытаясь свалить вину за творящиеся в мире беды на «научников», дающих технике могучие инструменты преобразования мира, ты призываешь всеми возможными средствами воздействовать на них, взывать к их совести, понуждать отказываться от исследований, которые могут быть обращены во вред человеку. Но что это за области? Ты сам в состоянии их четко определить? И при чем здесь ученые? — снова спрашиваю я тебя. На мой первый вопрос ты ответил: «Если ученый не предвидит последствий своей работы, значит, он дурак».
Как приятно иметь столь проницательного, умного, а главное — смелого сына! Ты отважно берешься судить о вещах, в которых ровным счетом ничего не смыслишь. Позволь же заметить, что любое научное открытие — будь то новое явление или закон — может быть в равной мере, с тем большей, впрочем, вероятностью, чем оно крупнее, обращено во благо или во зло. Техника равно собирает свои злые и добрые семена с полей, возделанных пытливой человеческой мыслью. Техникой же руководит политика. Политику делают люди. Такова упрощенная цепь логических рассуждений, к которым с таким удовольствием ты прибегаешь в своих письмах, упрекая меня в пренебрежении логикой. Мои доводы кажутся тебе чересчур общими и основанными только на сомнительной вере, тогда как тебя могут убедить лишь конкретные факты. Как это угораздило нас поменяться местами? Моя вера, однако, опирается на точные знания, а вот твои «точные знания» покоятся на нелепой, наивной вере в то, что наука всесильна и от нее исходит главная опасность.
Теперь спроси себя: кто ответствен за воспитание будущих политиков, организаторов, вершителей судеб, за их представления о ценностях, о хорошем и дурном? Кто учит всех нас?
Не хочу, сын мой, отягощать твои слабые плечи гуманитария, но и ты будь настолько великодушен, чтобы не взваливать целиком на мои, уже не слишком молодые, груз, который мы по справедливости должны разделить поровну.
Просвещай же и воспитывай не только меня, но и своих собратьев гуманитариев. Ведь именно в их школах получат образование завтрашние властители мира. Не сваливай вину за негодное воспитание на неразумных учеников. Взгляни, так ли уж безупречны учителя? Так ли благи их намерения? Но прежде определи для себя, что есть благо.
Любое наслаждение, радость стоит на краю откоса и скатится к страданию, если не соблюсти меры, а соблюсти ее в том, что кажется благом, очень трудно. Жизнь человеческая нуждается в сосредоточенности, ибо у кого настоящее уходит впустую, тот зависит от будущего. Страсть к путешествиям, к постоянной смене впечатлений, лиц, мест — верный признак незрелой или больной души. Свидетельством мудрости является способность длительно оставаться наедине с собою. Но и чтение множества писателей, а также разнообразнейших книг сродни бродяжничеству и непоседливости. Кто везде — тот нигде.
Не приносит пользы пища, если ее изрыгают, едва проглотив. Ничто так не вредит здоровью, как погоня за удовольствиями или непрестанная смена лекарств. Не окрепнет растение, если часто его пересаживать. Держи тело в строгости, чтобы оно не переставало повиноваться душе. Пусть пища лишь утоляет голод, питье — жажду, пусть одежда защищает тело от холода, а жилище — от всего ему грозящего.
И еще, сын мой, научись сомневаться в непогрешимости тех малых истин, до которых тебе удалось дотянуться. Затевай спор лишь для того, чтобы понять, а не ради утверждения своего превосходства.
Ты пишешь, что хочешь стать полиглотом. Славное намерение! Надеюсь, при наличии способностей, о которых, конечно, сподручнее судить твоим учителям, и с помощью каждодневных усилий тебе удастся заслужить это почетное имя. Нет ничего смешнее, когда человека называют благородным именем, а люди вокруг знают, что он этого не заслужил. Было бы неприкрытой иронией называть какого-нибудь безобразного парня Адонисом, который, как ты знаешь, был до того красив, что в него влюбилась сама Венера, или назвать труса Александром, или невежду — полиглотом, ибо всякий легко догадается, что это насмешка.
Мужайся! Слишком уж много языков придется тебе учить. Сегодня только латынью, английским, французским, немецким, японским и греческим не обойдешься. Возможно, тебе понадобится еще овладеть сложной техникой перевода с языка машин на язык людей, с языка науки — на язык техники, с языка техники — на язык политики, с языка мысли и чувства — на язык слов, с языка слов — на язык дела.
Крепко жму руку.
Твой отец».А началось-то все, строго говоря, с Пятого письма. Именно в тот день Валерий Николаевич Ласточка впервые услышал далекий голос, исчезнувший при написании Шестого. Помнится, что, потеряв вдруг путеводную нить, Валерий Николаевич медленно прошелся по комнате. Однако подле лабораторной стойки он опять услышал отчетливо произнесенную кем-то фразу. Бросился к письменному столу, чтобы записать, но звук снова уплыл. Он попробовал вернуться на прежнее место и, надо сказать, не напрасно: диктант возобновился.
Теперь мешали весы. Валерий Николаевич не раздумывая переставил их, придвинул табурет и стал конспективно записывать то, что с нарастающей скоростью диктовал ему внутренний голос.
Сперва голос звучал отчетливо, точно из транзисторного радиоприемника со свежими батарейками, но последующая трансляция сопровождалась сильнейшими помехами. Писать под диктовку становилось все труднее. От напряжения взмокла спина. Средний палец на правой руке онемел. Валерий Николаевич до боли в висках напрягал слух, и оставалось поражаться, откуда в этом маленьком, ослабленном длительным воздержанием теле берется столько упорства и упрямства. Он глох и слеп, впадал почти в бессознательное состояние, будто погрузившийся в зимнюю спячку зверек, однако сидящий в нем страж, отмеряющий неумолимо бегущее время, продолжал нести неусыпную вахту. Когда обеденный перерыв подходил к концу, раздавался сигнал тревоги — причем столь исправно и с такой точностью, что по нему, пожалуй, можно было проверять часы. Валерий Николаевич тотчас пробуждался от грезы и поспешно собирал свои разбросанные повсюду бумаги. Мысль о том, что кто-то застанет его за тайным общением с сыном, казалась еще более невыносимой и невозможной, чем мука творчества.