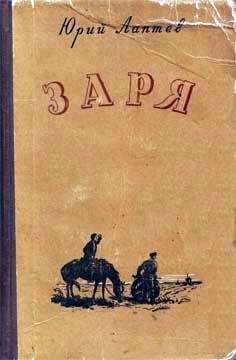— Прошу, — Ефремов протянул Самсонову кисет. — Вам можно гулять.
— А у вас что — другая губерния?
— Дела другие. На вас, Иван Григорьевич, вся надежда.
— Что такое? — Торопчин с сочувствием взглянул на угрюмое лицо Ефремова.
— Худо, — Ефремов устало и безнадежно махнул рукой, — Слышали ведь небось про наше несчастье. Шесть коней пало за зиму. А и все-то заведение было четырнадцать голов. И сеялок — без одной две. Вот до чего довели колхоз, сукины дети.
— Да, а ведь до войны хозяйство было самостоятельное, — посочувствовал Самсонов. Ну тут же спросил не без ехидности: — А волов ваши, говорят, на суп потратили?
Ефремов ничего не ответил. Крепко затянулся едким махорочным дымом. Потом заговорил раздраженно:
— МТС нас еще подвела. Вспахать, верно, вспахали всё. И целины подняли четырнадцать гектаров. А на культивацию и сев тракторов не дают.
— Правильно делают! — сказал Торопчин. — Не набрали еще наши МТС полную силу. А пока всю землю по району не поднимем, не успокоимся. Нет и не будет у нас пока передышки. А почему — сам небось понимаешь.
— Меня не агитируй. — Ефремов встал, бросил окурок, зло растер его каблуком и сразу начал вертеть новую цыгарку. — Я в партию-то вступил, когда ты еще по-петушиному кукарекал. Ты попробуй бабе-солдатке вдовой, у которой ртов полна хата, а рук две, международное положение растолкуй. Ей пуд картошки дороже всех моих слов. — У Ефремова задрожали руки, посыпался мимо клочка газеты табак. — Ну, нет у меня больше никаких сил, Иван Григорьевич!
— Успокойся, Павел Савельевич. Дай-ка я тебе скручу. — Торопчин взял из рук Ефремова кисет и бумагу. — Ослаб ваш колхоз, верно. А выход один: пока опять всю свою землю не поднимете — не поправитесь.
— Знаю я все это не хуже тебя, — загорячился Ефремов, — Лучше ты мне пятак подай, чем такой совет!
— Пятак мало, — серьезно сказал Торопчин, — Вот мы с тобой сейчас к Федору Васильевичу пройдем, к председателю нашему.
— А где он, председатель-то? — вмешался в разговор Самсонов.
— Опять укатил?
— С утра самого. Моя супруга как раз с ведрами шла, а он как пустит мимо нее на своем трескучем… У Василисы аж ноги подогнулись.
— Это хуже. — Торопчин передал Ефремову кисет и скрученную цыгарку. Чиркнул зажигалкой, дал прикурить и прикурил сам. — Выходит, опять его не увидишь до вечера.
— Ну что ж, придется прийти завтра, — Ефремов усмехнулся. — В акурат как мой отец к попу ходил пуд жита выпрашивать.
— Да… трудно, видать, тебе, Павел Савельевич, приходится, раз ты мне, своему товарищу, говоришь такие обидные слова, — укоризненно сказал Торопчин. — Это совсем голову потерять надо.
— Так и есть, — уныло подтвердил Ефремов. — Вчера к нам приезжал второй секретарь райкома, Матвеев. Побеседовал со мной так, что у меня до сих пор руки трясутся. Знаешь небось какой он… настойчивый.
— Знаю Матвеева, еще бы… Только и райкомовцам сейчас приходится туго. Отчего, ты думаешь, Наталья Захаровна слегла. Да-а… Так что же с тобой делать?
— Нам ведь только сеялок пару, с тяглом, конечно. — Ефремов оживился, взглянул на Торопчина с надеждой. — Поможете если, — вот тебе мое большевистское слово, — в долгу не останемся. Хлебом — хлебом. Будет у нас к осени хлеб. Ведь всю землю подчистую засеять решили. А то на Петровки плотников вам пришлем. Гидростанцию-то нынче пустить думаете?
— Обязательно, — Торопчин даже плохо слушал, что говорил ему Ефремов. — Ну, сеялки отпустить можно. А вот коней?
— Сами ведь с завтрева начинаем пар поднимать. Вот в чем беда, — высказал Ефремову старый конюх то, о чем Торопчин только подумал, а сказать не решился. Не мог Иван Григорьевич отказать в такой просьбе.
— Все равно, — решившись, заговорил, наконец, Торопчин. — Помочь вам надо. Обязаны мы вам помочь. Так, что ли, Степан Александрович?
— Какой же может быть разговор. Муравей — насекомая, а и тот друг дружке помогает, — не колеблясь, примкнул к решению Торопчина и Самсонов.
— При социализме ведь живем, не как-нибудь! — вставил свое комсомольское слово и Никита Кочетков.
— Вот что, Никита, — решив для себя этот не простой вопрос, Торопчин повеселел. — Беги сейчас к Новоселову Андрею Никоновичу, потом к Новоселовой Настасье, к Брежневу, к Балахонову, дядю своего позови… Постой, кто еще у нас в правлении?
— Самого главного-то и забыл, — чай Иван Данилович, — подсказал Самсонов.
— Да, Шаталов, — Торопчин недовольно покосился на старого конюха, — Ну хорошо, позови и Шаталова. Скажи, что Торопчин просил всех немедленно собраться в правлении, понял?
— Разом пригоню! — сказал Никита и затопотал к выходу.
4
Кому праздник, а кому — сразу два. Особенным, можно сказать, приметным оказался этот день для колхозного кузнеца Никифора Игнатьевича Балахонова.
Недаром спозаранку начал готовиться Никифор Игнатьевич к торжеству какому-то, что ли. Вырядился так, что дочь Настасья, вернувшаяся со двора с подойником, увидав отца в таком необычном виде, изумилась.
— Куда это вы собрались, папаша?
Пока Настасья доила корову, Балахонов успел слазить в сундук, где в самом низу хранился у него костюм, справленный еще задолго до Отечественной войны, но и сейчас ничуть не потерявший свежести. Никифор Игнатьевич и вообще-то был человек бережливый, люди его даже скуповатым считали, а этот замечательный костюм надевал за много лет только четыре раза. Так что костюмчик был, что называется, «с иголочки». Слежался, правда, но ничего, расправится, тем более что в последние годы Балахонов раздался в кости и пиджачок стал ему слегка тесноват.
Никифор Игнатьевич недовольно покосился на дочь: нельзя уж и одеться прилично человеку. Сказал:
— А ты не закудыкивай… Правление сегодня собираем. Поняла?
Настя, конечно, поняла. Сразу догадалась девушка, что не в правлении дело. Но почувствовала, что больше приставать к отцу с расспросами не стоит. Сказала только, процеживая сквозь марлю в кринку молоко:
— Вы уж и побрились бы, папаша. Раз такой случай. В печи чугунок воды греется. Достать?
— Не надо. Сойдет и так.
Это было уже совсем нелогично. За неделю подбородок да и щеки Балахонова покрылись густой, колючей, как проволока, щетиной, в которой серебрились нередкие седые волоски. Никифор Игнатьевич начал стареть с бороды.
Странно. Вот почему Настя, едва только закрылась за папашей дверь, метнулась к окну. Кое-что прояснилось — сразу догадалась девушка, почему Никифор Игнатьевич не стал бриться.
Балахонов направился прямехонько в парикмахерскую.
Но конечная цель отца стала еще более непонятной. Чего папаша придумал? Девушка присела у окна на стул, недоуменно уставилась на фикус.
В дверь кто-то постучал. Осторожно так, нерешительно.
— Заходите… Кто там? — крикнула Настя.
Там оказался художник Павел Гнедых. Он и вошел в избу после возгласа Насти. Павел тоже принарядился. Не так, как папаша, но все-таки. И медали нацепил — все четыре. Оглядел Гнедых горницу и удивился:
— А вы, оказывается, одна дома, Настасья Никифоровна?
Чему, спрашивается, было удивляться? Ведь битый час караулил Павел, издалека правда, когда же выйдет из дому Никифор Игнатьевич. А младший брат Насти Павлуня вместе с другими ребятами гонял вдоль села велосипед. Это художник тоже приметил. А старшего сына Балахонова и вообще на селе не было. Служил во флоте Михаил. Так что никто из семьи Балахоновых, кроме Насти, дома в это время находиться никак не мог.
Но Павел Гнедых все-таки удивился.
— Одна. Сами небось видите. — Настя приветливо оглядела невысокую, пожалуй щупловатую фигурку Павла, его тонкое, подвижное, чуть тронутое загаром лицо. Хотя именно благодаря этим своим качествам Павел Гнедых и нравился Насте — высокой, не по-женски сильной девушке с простым, но таким привлекательным в своей простоте лицом. И еще нравилось Насте Балахоновой поведение Павла Гнедых: его мягкость в обращении, приветливость, умение всегда по-хорошему подойти к человеку. Да и не только Насте, — все, женщины в первой бригаде хвалили своего учетчика и ставили его в пример.
«С таким человеком и поговорить приятно, и услужить ему хочется».
Были, конечно, на селе и другие вежливые и воспитанные ребята. Те же Аникеевы братья. И Новоселов Константин. И уехавший недавно на курсы механиков по гидроустановкам Александр Петруничев. Да и младшего конюха Никиту Кочеткова тоже обходительным можно назвать. Но немало еще было и таких, которые ненужную лихость, грубость да и озорство подчас считали нормальным поведением. Не понимают, что ли, такие молодые колхозники, что их выходки даже удивлять народ перестали. Просто противно стало большинству людей на селе смотреть на то, как иной «молодец» с девушкой «заигрывает» или «шутку шутит» со стариком.