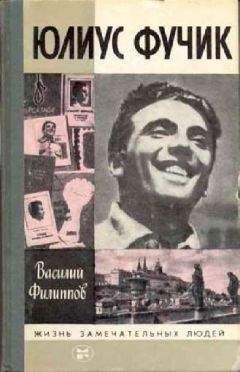Но офицер безнадежно махнул рукой и, обозлившись, внезапно ответил ей резко:
– Вы-то еще чего лезете? Что вы понимаете? Какого вам жандарма – с того света, что ли? Сидите да помалкивайте!
Тимка неожиданно высунулся из окошка:
– Эгей! Борька, мы здесь!
– Ну, как вы там?
– Ничего… Мы хорошо устроились. Отец на вещах сидит, а меня матрос к себе на верхнюю полку в ноги пустил. «Только, говорит, не дрыгайся, а то сгоню».
Вспугнутая вторым звонком толпа загомонила еще громче. Отборная ругань смешивалась с французской речью, запах духов – с запахом пота, переливы гармоники – с чьим-то плачем, – и все это разом покрыл мощный гудок паровоза.
– Прощай, Тим-ка!
– Прощай, Борь-ка! – ответил он, высовывая вихор и махая мне рукой.
Поезд скрылся, увозя с собой сотни разношерстного, разноязычного народа, но казалось, что вокзал не освободился нисколько.
– Ух, и прет же! – услышал я рядом с собой голос. – И все на юг, все на юг. На Ростов, на Дон. Как на север поезд, так одни солдаты да служивый народ, а как на юг, то господа так и прут!
– На курорт едут, что ли?
– На курорт… – послышалось насмешливое. – Полечиться от страха, нынче страхом господа больны.
Мимо ящиков, сундуков, мешков, мимо людей, пивших чай, щелкавших семечки, спавших, смеявшихся и переругивавшихся, я пошел к выходу.
Хромой газетчик Семен Яковлевич выскочил откуда-то и, пробегая с необычной для его деревянной ноги прытью, заорал тонким, скрипучим голосом:
– Свежие газеты!.. «Русское слово»!.. Потрясающие подробности о выступлении большевиков! Правительство разогнало большевистскую демонстрацию! Есть убитые и раненые. Безуспешные поиски главного большевика Ленина!..
Газету рвали из рук – сдачу не спрашивали.
Возвращаясь, я взял чуть правее шоссе и направился по узкой тропке, пролегавшей меж колосьев спелой ржи. Спускаясь в овраг, я заметил на противоположном склоне шагавшего навстречу человека, согнувшегося под тяжестью ноши. Без труда я узнал Галку.
– Борис, – крикнул он мне, – ты что здесь делаешь? Ты с вокзала?
– С вокзала, а вы-то куда? Уж не на поезд ли? Тогда фьють… опоздали, Семен Иванович, поезд только что ушел.
«Ремесленный учитель» Галка остановился, бухнул тяжелую ношу на траву и, опускаясь на землю, проговорил огорченно:
– Ну и ну! Что же теперь делать мне с этим? – И он ткнул ногой в завязанный узел.
– А тут что такое? – полюбопытствовал я.
– Разное… литература… Да и так еще кое-что.
– Тогда давайте. Я вам обратно помогу донести. Вы в клубе оставите, а завтра поедете.
Галка затряс своей черной и, как всегда, обсыпанной махоркой бородой:
– В том-то, брат, и дело: что в клуб нельзя. Клуб-то, брат, у нас тю-тю. Нету больше клуба.
– Как нету? – чуть не подпрыгнул я. – Сгорел, что ли? Да я же только утром, как сюда идти, проходил мимо…
– Не сгорел, брат, а закрыли его. Хорошо, что нас свои люди успели предупредить. Там сейчас обыск идет.
– Семен Иванович, – спросил я недоумевая, – да как же это? Кто же это может закрыть клуб? Разве теперь старый режим?.. Теперь свобода. Ведь у эсеров есть клуб, и у меньшевиков, и у кадетов, а анархисты сроду пьяные и вдобавок еще окна у себя снаружи досками заколотили, и то им ничего. А у нас все спокойно, и вдруг закрыли!
– Свобода! – улыбнулся Галка. – Кому, брат, свобода, а кому и нет. Вот что мне с узлом-то делать? Спрятать бы пока до завтра надо, а то назад в город тащить неудобно, отберут еще, пожалуй.
– А давайте спрячем, Семен Иванович! Я место тут неподалеку знаю. Тут, если оврагом немного пройти, пруд будет, а еще сбоку этакая выемка, там раньше глину для кирпичей рыли и в стенках ям много. Туда не только что узел, а телегу с конем спрятать можно. Только говорят, что змеюки там попадаются, а я босиком. Ну, вам-то, в ботинках, можно. Да они если и укусят, то ничего – не помрешь, а только как бы обалдеешь.
Последнее добавление не понравилось Галке, и он спросил, нет ли где поблизости другого укромного местечка, но чтобы без змеюк.
Я ответил, что другого такого места поблизости нету и кругом народ бывает: либо стадо пасется, либо картошку перепалывают, либо мальчишки возле чужих огородов околачиваются.
Тогда Галка взвалил узел на плечо, и мы пошли по берегу ручья. Узел спрятали надежно.
– Беги теперь в город, – сказал Галка. – Я завтра сам заберу его отсюда. Да если увидишь кого из комитетчиков, то передай, что я еще не уехал. Постой… – остановил он меня, заглядывая мне в лицо. – Постой! А ты, брат, не того… – тут он покрутил пальцем перед мои лицом, – не сболтнешь?
– Что вы, Семен Иванович! – забормотал я, съежившись от обидного подозрения. – Что вы! Разве я о ком-нибудь хоть что… когда-нибудь? Да я в школе ни о ком ничего никогда, когда даже в игре, а ведь это же всерьез, а вы еще…
Не дав договорить, Галка потрепал меня по плечу худою цепкою пятерней и сказал, улыбаясь:
– Ну ладно, ладно… Кати… Эх ты, заговорщик!
За лето Федька вырос и возмужал. Он отпустил длинные волосы, завел черную рубаху-косоворотку и папку. С этой папкой, набитой газетами, он носился по училищным митингам и собраниям. Федька – председатель классного комитета. Федька – делегат от реального в женскую гимназию. Федька – выбранный на родительские заседания. Навострился он такие речи заворачивать – прямо второй Кругликов, Влезет на парту на диспутах: «Должны ли учащиеся отвечать учителям сидя или обязаны стоять?», «Допустима ли в свободной стране игра в карты во время уроков закона божьего?» Выставит ногу вперед, руку за пояс и начнет: «Граждане, мы призываем… обстановка обязывает… мы несем ответственность за судьбы революции…» И пошел, и пошел.
С Федькой у нас что-то не ладилось. До открытой ссоры дело еще не доходило, но отношения портились с каждым днем.
Я опять остался на отшибе.
Только что начала забываться история с моим отцом, только что начал таять холодок между мной и некоторыми из прежних товарищей, как подул новый ветер из столицы; обозлились обитатели города на большевиков и закрыли клуб. Арестовала думская милиция Баскакова, и тут опять я очутился виноватым: зачем с большевиками околачивался, зачем к 1 Мая над ихним клубом на крыше флаг вывешивал, почему на митинге отказался помогать Федьке раздавать листовки за войну до победы?
Листовки у нас все раздавали. Иной нахватает и кадетских, и анархистских, и христианских социалистов, и большевистских – бежит и какая попала под руку, ту и сует прохожему. И этаким все ничего, как будто так и надо!
Как же мог я взять у Федьки эсеровские листовки, когда мне Баскаков только что полную груду своих прокламаций дал? Как же можно раздавать и те и другие? Ну, хоть бы сходные листовки были, а то в одной – «Да здравствует победа над немцами», в другой – «Долой грабительскую войну». В одной – «Поддерживайте Временное правительство», в другой – «Долой десять министров-капиталистов». Как же можно сваливать их в одну кучу, когда одна листовка другую сожрать готова?
Учеба в это время была плохая. Преподаватели заседали по клубам, явные монархисты подали в отставку. Половину школы заняли под Красный Крест.
– Я, мать, уйду из школы, – говаривал я иногда. – Учебы все равно никакой, со всеми я на ножах. Вчера, например, Коренев собирал с кружкой в пользу раненых; было у меня двадцать копеек, опустил и я, а он перекосился и говорит: «Родина в подачках авантюристов не нуждается». Я аж губу закусил. Это при всех-то! Говорю ему: «Если я сын дезертира, то ты сын вора. Отец твой, подрядчик, на поставках армию грабил, и ты, вероятно, на сборах раненым подзаработать не прочь». Чуть дело до драки не дошло. На днях товарищеский суд будет. Плевал я только на суд. Тоже… судьи какие нашлись!
С маузером, который подарил мне отец, я не расставался никогда. Маузер был небольшой, удобный, в мягкой замшевой кобуре. Я носил его не для самозащиты. На меня никто еще не собирался нападать, но он дорог мне был как память об отце, его подарок – единственная ценная вещь, имевшаяся у меня. И еще потому любил я маузер, что всегда испытывал какое-то приятное волнение и гордость, когда чувствовал его с собой. Кроме того, мне было тогда пятнадцать лет, и я не знал да и до сих пор не знаю ни одного мальчугана этого возраста, который отказался бы иметь настоящий револьвер. Об этом маузере знал только Федька. Еще в дни дружбы я показал ему его. Я видел, с какой завистью осторожно рассматривал он тогда отцовский подарок.
На другой день после истории с Кореневым я вошел в класс, как и всегда в последнее время, ни с кем не здороваясь, ни на кого не обращая внимания.
Первым уроком была география. Рассказав немного о западном Китае, учитель остановился и начал делиться последними газетными новостями. Пока споры да разговоры, я заметил, что Федька пишет какие-то записки и рассылает их по партам. Через плечо соседа в начале одной из записок я успел прочесть свою фамилию. Я насторожился.