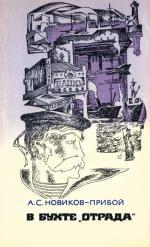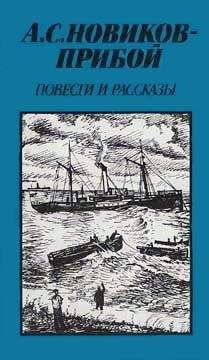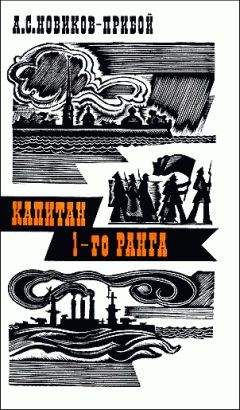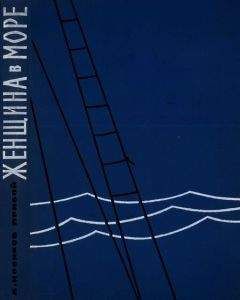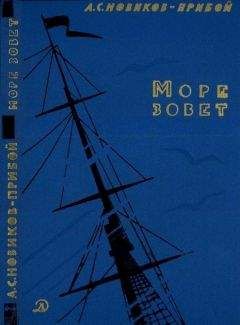чернорабочих тихонько вытирает слезы. Даже буфетчик, ко всему равнодушный, кроме наживы, застыл на месте, скосив на матроса маленькие, острые глаза.
Точно не в трактире, а с корабля, переживающего бедствие, волнами раскатывается бас матроса, с тревогой возвещая:
Набок кренит, на борт валит,
Бортом воду забирает…
А подголосок, словно испугавшись, что предстоит неминуемая гибель, отчаянно рыдает:
Необычный, красивый мотив песни, исполняемой с большой страстностью, заражает тревогой весь трактир. И чем дальше поют, тем страшнее развертывается картина бури, готовой разнести корабль. Вот уже:
Белые паруса рвутся,
У матросов слезы льются…
– Не могу больше, – оборвав песню, неожиданно заявляет матрос, вытирая потное лицо. – Силушки нет.
Певцов наперебой благодарят, хвалят, а пучеглазый купец со слезами на глазах целует их в губы, говоря растроганно:
– Спасибо!.. Отродясь такой не слыхал, песни-то!.. Душа будто от скверны очистилась.
Матрос что-то отвечает, но в шуме голосов его уже не слышно. Он укладывает гармонику в футляр. Поблекший, с потухшими глазами, поддерживаемый женою, он едва пробирается через толпу к выходу и, выбрасывая в сторону трясущиеся ноги, тихо выходит на улицу.
А на дворе дождь, мелкий, осенний, надоедливый. Бросаясь из стороны в сторону, колышется пламя фонарей, слабо освещая мокрые, угрюмые дома. Дует ветер, тонко подпевая в телеграфных проводах. Не разбирая дороги, опираясь на жену и костыль, молча идет матрос, немного хмельной, усталый, с одной лишь мыслью об отдыхе в холодном и сыром подвале.
В окна флотского экипажа смотрит осенняя ночь, темная и холодная. Нудно завывает ветер, как изголодавшаяся нищенка, и нетерпеливо барабанит о стекла каплями дождя; он словно сердится, что внутри этого длинного кирпичного здания, в выбеленных камерах, ярко горят газовые рожки и царит тепло.
В такую погоду никому не хочется идти в город: матросы сидят на своих койках, покрытых серыми одеялами, скучают, распивают чай, в шутку перебраниваются, читают или же слоняются из одной роты в другую по знакомым и приятелям. Какой-нибудь старый моряк рассказывает о своих приключениях в дальних плаваниях, о чудесах жарких стран, ловко переплетая действительность с красивым вымыслом и вызывая удивление у молодежи.
Пахнет особым казарменным запахом.
В одной из камер машинный квартирмейстер первой статьи Дмитрий Брагин, сидя на корточках у раскрытого сундука, перелистывает толстую, только что разрезанную книгу. Его большая круглая голова упрямо наклонена, черные брови строго нахмурены, а маленькие подслеповатые глаза быстро шарят по страницам. Всегда одинокий, он среди команды считается загадочным человеком. Если кто-нибудь из матросов ругает начальство, он говорит:
– Ты, брат, тише!
– А что? – спрашивает тот.
– Всякая власть от бога.
– А ты откуда знаешь?
– Так святые отцы говорят, – отвечает Брагин, но смотрит на матроса так насмешливо, точно подзадоривает его.
Иногда вытащит из сундука библию, как бы стараясь цитатами из нее подтвердить свою мысль, но читает те места, где говорится как раз обратное.
– Нет, не то, – заявит вдруг он, кладя библию обратно в сундук. – Забыл я, где это за власть-то говорится. После найду…
В то же время в глазах начальства это – примерный унтер-офицер, хорошо знающий свое дело, исправный по службе и усердно посещающий церковь.
Матросы отзываются о нем по-разному.
– Не поймешь его… Не то больно умен, него пустая голова.
– Он только с виду дубина стоеросовая, а черепок у него работает на тридцать узлов…
Брагин, просматривая книгу, сияет весь, словно жених перед желанной невестой.
– Вот это здорово! – хлопнув ладонью по книжке, восторженно восклицает он.
– Ты что это? – спрашивают его матросы.
– Так… Книгу хорошую достал. После справки вслух буду читать… Вы отродясь ничего подобного не слыхали.
Брагин перебирает свои книги, едва умещающиеся в сундуке. Тут «Сила и материя» Бюхнера и «Четьи-Минеи», «Библия» и сочинения Штрауса, «Требник» и «О происхождении видов» Дарвина. Вся крышка сундука залеплена картинками с изображениями святых отцов.
– Сколько, поди, денег потратил на эту чепуху, а для чего, спрашивается? – замечает один марсовой, лежа на кровати и зевая во весь рот.
– Сразу видать, что замешан на пресной водичке, – отвечает Брагин, – иначе не рассуждал бы так.
– А ты – на дрожжах?
– На самых настоящих. Поэтому меня трудно превратить в болвана.
– На справку! – проиграв в медную дудку, командует дежурный по роте.
Простояв на перекличке и пропев вечерние молитвы, матросы толкутся около Брагина, прося:
– Ну-ка, браток, уважь публику!
– Да уж будете довольны, – отвечает Брагин и достает из-под подушки книгу.
Он читает стоя, не торопясь. Голос его, немного вздрагивая, звучит все громче и внятнее, брови нахмурены, а худощавое лицо серьезно, как у проповедника.
Матросы, собравшиеся почти со всей роты, слушают его с напряженным вниманием, застыв на месте, чувствуя какую-то смутную тревогу. И не удивительно: в книге резко критикуется царское правительство, беспощадно вышучивается полицейская религия, а попы бичуются такими резкими сарказмами, что, кажется, от них летят только клочья. Раздаются слова, новые, страшные, никогда еще не слыханные, разрушая, как каменные глыбы, установившиеся взгляды на жизнь. Все озарено пламенем глубокой мысли, слушатели охвачены трепетом и безумным страхом от впервые вспыхнувшей перед ними во всем своем ослепительном блеске правды.
– Брось, слышь! В остроге сгноят… Разве можно это при всех читать? – толкая Брагина, предупреждают его друзья.
– Не мешайте! – резко отвечает машинный квартирмейстер и, окинув свою аудиторию торжествующим взглядом, вытирает рукавом форменки потное лицо.
– Это он из головы выдумывает, – воспользовавшись паузой, кричит кто-то из толпы.
– Подойди и посмотри!
Несколько человек, протолкавшись вперед, с любопытством заглядывают в книгу, щупают ее руками, вырывая друг у друга.
– Отступи на мостовую! – кричат им другие.
– Продолжай читать! Читай дальше! – гудят нетерпеливые голоса.
Брагин, усевшись на шкаф, чтобы его могли все видеть, начинает снова читать с еще большим воодушевлением.
А матросы, придвинувшись к нему ближе, слушают жадно, не спуская с него глаз.
По мере того как прочитываются новые страницы, любопытство их все возрастает. Незримый дух гения, передаваясь через голос чтеца, покоряет слушателей. И всем кажется, что в их уродливую и сумрачную жизнь врывается золотой луч истины, освещая бездну людской лжи и порока.
– Ай да книга! – изредка восклицают из толпы.
– Ровно поленом, вышибает дурь из головы!
– Другая книга как будто и складная, но такая мудреная, точно ее аптекарь сочинил, – восторгается чей-то бас. – А тут все ясно, что и к чему.
– Тише вы, оглашенные! – раздаются сердитые голоса.
Подходит фельдфебель, прозванный за свое уродливое лицо Кривой Рожей. Никем