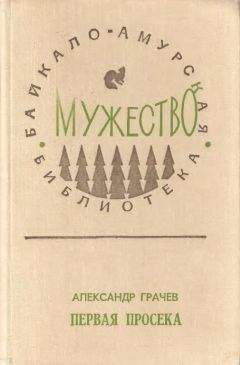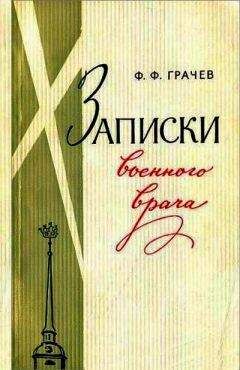— Я предлагаю вызвать в комитет всех, кто живет в конюшне, и провести с ними собрание. Там есть хорошие ребята. Если хотите, я первый выступлю, расскажу о своем горьком опыте.
Сидоренко оживился.
— А это, пожалуй, неплохая мысль. Только зачем вызывать в комитет? Давай прямо там, в конюшне, устроим собрание. Как думаешь, когда это лучше сделать? Наверно, вечером?
— Конечно, вечером, перед сном.
— Правильно! Так и назовем — конференция прогульщиков! — Сидоренко грохнул кулаком по столу. — И не только тех, кто живет в конюшне, — всех соберем, со всей строительной площадки! Вот это ты здорово подсказал! Ну, а с работой как? Хочешь опять к Ставорскому? Заставим его отменить приказ.
— Куда угодно, только не к Ставорскому! — решительно ответил Захар. — Если можно, пошлите меня опять на сплав. Там мне все знакомо. А вину свою искуплю на работе! — добавил он.
— Хорошо, завтра решим. Все. Иди пока отдыхай, а ровно в восемь вечера будь в конюшне. И как следует подготовься к выступлению. А я сейчас займусь этим делом.
Был уже полдень, когда Захар вышел из комитета. Сквозь пелену перистых облаков жарко палило солнце. Амур, неоглядный, ослепительно сияющий, млел от жары.
Захар остановился в раздумье: куда идти? Есть хотелось так, что живот подтянуло. Решил пойти на конюшню. Там в рюкзаке оставалось два куска сахара, можно червяка заморить. По пути зашел на почту: нет ли писем? Нет, писем ему нет.
В конюшне — прохлада. В том углу, где вчера сидели картежники, спали трое, вытянувшись на сене.
Захар достал сахар и принялся грызть его. Вспомнил о Любаше, и на душе стало светло. Как это вчера получилось? Все будто во сне. Значит, она любит его? Милая Любаша… А как же Настенька? До сих пор ни строчки не написала. Обиделась? Разлюбила? Ну и пусть! У него и самого чувство к ней притупилось. Что значит расстояние и время! А может быть, он и не любил ее?
С этими мыслями Захар незаметно уснул. Но спал недолго. Вскочил как-то сразу, будто, его толкнули.
На конный двор Захар шел с твердой решимостью добиться, чтобы его больше не беспокоили. Но этого не потребовалось. Едва он появился в кабинете Ставорского, как широколобый заявил:
— Ладно, Жернаков, ты нам пока не нужен. Если потребуешься, вызовем.
— Ну, вот и хорошо! — улыбнулся Захар, довольный столь неожиданным исходом дела.
Получив расчет и деньги, он тут же решил пойти поискать продуктовую карточку — иногда их продавали исподтишка возле столовой. Ему повезло. У входа в столовую стоял верзила в грязной рубахе и флотских брюках клеш. Сторговались быстро — на полмесяца за четвертную. Захар взял килограмм сырого, как глина, хлеба и разом его съел.
Вечером конюшня была битком набита народом. На столе, накрытом красной скатертью, ярко горела лампа-«молния». Говор, вспышки смеха, громкие реплики как-то странно звучали в этом полутемном, глухом помещении. Прогульщики сидели, прямо на полу — на высохшем, утрамбованном навозе.
— Начинать пора!
— Начинайте, а то разбежимся! — долетали выкрики из разных углов.
И вот за столом — секретарь комитета Панкратов, Была у него манера говорить степенно, с подчеркнутой многозначительностью. Однако это не помогло Панкратову завоевать авторитет у комсомольцев. Его попросту никто не знал на участках, потому что он почти никогда там не бывал. Зато всюду успевал заворг Ваня Сидоренко. Сейчас он сидел у края стола, торопливо записывая фамилии.
— Ну, всех записал? — спросил его Панкратов…
— Больше никто не подходит.
— Тогда начнем!
За стол президиума на длинную доску, положенную на табуреты, уселись представители прогульщиков, в том числе Захар Жернаков и курчавый — Антон Харламов. Харламов только что вернулся со своей артелью с Мылкинского озера и немало удивился, застав в конюшне такое сборище людей.
— Сто сорок два карася поймали, — шепнул он на ухо Захару, — насилу донесли. И все благодаря твоим крючкам!
Доклад делал сам Панкратов. Обычно он умудрялся говорить скучно и нудно даже на самые животрепещущие темы. Своей манере он остался верен и сейчас. Но в конюшне было тихо, так тихо, как ни на каком другом собрании. Общее чувство вины и позора угнетало всех.
— Слово для выступления предоставляется бывшему бригадиру конного парка, дезертиру стройки и прогульщику Жернакову, — сказал в заключение Панкратов.
Захара будто молотом оглушили.
— Я прогульщиком не был! — с обидой вскочил он.
— Дезертир хуже, чем прогульщик! — крикнул кто-то из темноты.
Кругом дружно засмеялись:
— Не по рангу назвали!
Все мысли, что копились в голове Захара, вся страсть раскаяния, с которой он готовился выступить, — все разом улетучилось под ударом этого уничтожающего смеха. Захар стоял и молчал. Он готовился стойко вынести позор, но не мог предвидеть всей бездны унижения, в которую рухнет на глазах товарищей. Он уже готов был отказаться от слова, но тут услышал подбадривающий шепот Вани Сидоренко: «Смелее, смелее, Жернаков! Не робей!» Самообладание вернулось к Захару.
— Вот тут назвали меня прогульщиком, — заговорил он, — а я сказал, что прогульщиком не был. Вы подняли меня на смех, кто-то крикнул, что дезертир хуже прогульщика… Все правильно. Да, я не был прогульщиком…
Снова пробежал смешок, но он уже не действовал на Захара.
— Встретился с трудностями, — продолжал Захар, — и решил бежать со стройки. Но кто же хуже — прогульщик или дезертир?
— Дезертир хуже!
— Оба одинаковые! — кричали из темноты.
— И тот и другой предатели — вот кто мы! — Захар рубанул ладонью по воздуху. — Предатели и сволочи, потому что бросили своих товарищей, а сами отправились искать вольготную жизнь. Это раз! А во-вторых, мы забыли о том, что носим комсомольские билеты, а на них портрет Ленина… Я вас не агитирую, — помолчав, продолжал Захар. — Я говорю то, что у меня накипело вот тут. — Он сжал в горсть гимнастерку под самым горлом.
Он рассказывал о Головахе — во всех подробностях: от первого знакомства с ним и до возвращения на стройку.
— Вот теперь, видите, как оно получается, когда мы, комсомольцы, бросаем своих товарищей, — заключил он. — Мы оказываемся в одном ряду с самыми настоящими бандитами. А не одумайся я своевременно, чем бы могло все кончиться? А тем, что либо он меня прибил бы где-нибудь, либо я сам стал заодно с ним бандитом и вором! А разве не о том же говорит побег одиннадцати комсомольцев? Попали в лапы негодяя и поплатились за это жизнью.
Не успел он сесть, как раздались аплодисменты, сначала редкие, а потом все дружнее и дружнее. Для большинства это было неожиданностью — ведь как-никак здесь собрались прогульщики.
— Дайте мне слово, — попросил курчавый, обращаясь к Панкратову.
Харламов говорил сбивчиво, волнуясь. Он рассказал о том, как они, семь землекопов, ушли из бригады, как мытарились, голодали, как начали ловить рыбу. Рассказал обо всем честно, ничего не скрывая.
— И вот, что же получилось? — задал он вопрос. — Не нравилось копать землю, быть все время по колено в воде, но там хоть мы получали карточки, питались в столовой. А теперь тоже каждый день в воде, только не получаем карточек, живем на одной рыбе. Не знаю, как наша «рыбацкая артель», а я сам завтра выхожу на работу, товарищи. Хватит, побаловали, пора за ум браться!
— А вы бы могли возглавить рыболовецкую бригаду из комсомольцев? — спросил человек с черной повязкой на глазу. — Настоящую, по всем правилам, рыболовецкую бригаду, которая снабжала бы наши столовые?
Это был начальник отдела кадров стройки Шаповалов. Он пришел с опозданием и сидел теперь на корточках, прислонившись спиной к бревенчатой стене конюшни.
— А чего ж не смочь? — удивился Харламов. — Выросли в кубанских плавнях, с детства рыбачили.
— Вот и прошу вас: организуйте бригаду и завтра все приходите ко мне в отдел кадров.
— Хорошо, — охотно согласился Харламов.
— Кто еще хочет выступить? — спрашивал между тем Панкратов.
— Разрешите мне, — послышался слабый голос из самого дальнего угла.
— Пожалуйста, проходите сюда, к свету, — пригласил Панкратов. — Как фамилия?
— Слободяник…
В зале зашептались. Харламов наклонился к Захару, сказал возбужденно ему на ухо:
— Это один из двух, что вернулись еле живые…
Слободяник устало подошел к столу. Уже один его вид потряс, заставил всех податься вперед, затаить дыхание. Остроносое продолговатое лицо его походило на маску — бледное, с обострившимися скулами и буграми желваков, с ввалившимися глазами. Он говорил тихо, хотя, видно, напрягал все силы, стараясь говорить как можно громче. То, что он рассказывал, — как их завел в тайгу проводник, как умерли первые двое от ядовитых грибов, как кончились продукты и ребята стали слабеть, как один за другим падали в обморок, — привело всех в оцепенение. Когда он кончил, еще долго стояла гнетущая тишина. Потом загудели голоса, и Панкратову долго пришлось призывать к порядку.