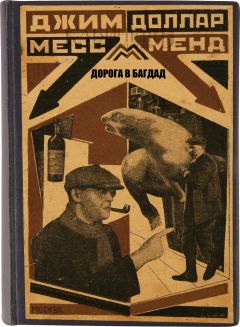— Если только цепь снимет. Но он этого не сделает.
…Тихо-тихо прошел пароход мимо работающего человека. А там дальше висели еще две мухи и ремонтировали каменные ребра канала. Минуты текли, аллея сузилась сзади, как и спереди, и все еще казалась бесконечной, но уже с двух сторон. Вот над ними, с одной стены канала на другую, вознесся мостик. Воздушный контур его сперва показался в профиль, а потом сник. На мосту стоял человек с флагом и отсалютовал им в знак благополучия. Они двигались и двигались.
— Глядите, — раздался вдруг взволнованный голос Казика, — вон стоит новый человек и без цепи!
Действительно, вдалеке держался на стене работник, откинув голову кверху. Цепи на нем не было.
— Что-нибудь понадобилось ему сверху. Сейчас ее спустят, — сказал капитан.
— Он зашевелился. Глядите, глядите, он сейчас свалится!.. — не без восторга информировал Казик. Капитан улыбнулся. Дамы глядели. И вдруг случилось непонятное и недопустимое событие: рабочий, как тяжелая капля, сорвался с места своего притяжения и капнул в канал. Это длилось секунду. Падая, он не задел за стену. Видно было, как в падении он очертил дугу, сперва пролетев головой, а потом грузно свиснув вниз ногами.
— Клешни! Отцепи клешни! — заревел капитан по-гречески. Дамы начали кричать на полсекунды позже, заглушив его голос своим визгом.
— Он погиб, если не догадается сбросить железо, — глухо сказал капитан по-французски и добавил по-гречески матросам: — Спустите шлюпку!
Те уже делали свое дело, не дожидаясь его приказа. Дюжина рук молчаливо работала. Видеть, как по сумрачной глади канала пошли круги от канувшего в нее человека, и бездействовать, — было мучительно. Верочка с ужасом, отчасти преувеличенным ее собственным переживанием, схватилась за виски. Константин Михайлович между тем был обуреваем мыслями и чувствами, столь молниеносно-торопливыми, что он не успевал отдать себе в них отчета. Ни одна не доходила до ясности, не додумывалась, но в смутном и неопределенном наплыве их Константину Михайловичу мерещился все же только один смысл. Прежде чем спустили лодку, он вдруг сбросил пальто и пиджак, подбежал к борту и перекинул через него ногу.
Тут, мой читатель, вы, разумеется, подумаете, что герой этого рассказа спасет рабочего, или погибнет с влюбленной Верочкой, или, по крайней мере, хлебнет темно-зеленой воды канала. Но… в том-то и дело, что читатель ошибется по всем пунктам.
Мы оставили Константина Михайловича с ногой, перекинутой через борт. Что же делали в это время другие действующие лица? Елизавета Павловна продолжала кормить маленького. Она видела падение рабочего и жест своего мужа, но, зная свое бессилие, осталась спокойной: ей надо было сделать свое дело — накормить ребенка, и она кормила его, закрыв глаза. Верочка мельком убедилась в этом чудовищном спокойствии, и оно погубило ее. В глубине души она не испытывала особенного ужаса; любовь не была ощутительна так, как утром, когда за любовь говорила эмоция; ничто не могло бы толкнуть ее на слишком возбужденный поступок, если б некоторая взвинченность, присущая людям именно в те минуты, когда они чувствуют слабее и бледнее прежнего, не охватила ее воображения. Слабо вскрикнув, с оттенком театральности, она бросилась к Константину Михайловичу и судорожно уцепилась за его плечо.
В ту же минуту ей стало ясно, что она совершила ошибку. И оттого она вскрикнула вторично, на этот раз уже с неподдельным отчаянием.
— Не беспокойтесь, — сказал капитан, подходя к ним и показывая куда-то пальцем, — он сбросил железо и уже фыркает, как собака. Вон он плывет, — сейчас его подберут в лодку.
Константин Михайлович и Верочка остались вдвоем у борта и поглядели друг на друга. Каждый из них испытывал такое чувство, как если б, имея только целковый, съел в ресторане на пять рублей. Это была унизительнейшая минута расплаты. Оба они перехватили! Он перехватил, когда ринулся за борт. Она перехватила, когда бросилась к нему. То и другое унижало их своей неестественностью. Они рылись, рылись из всех сил, если не по карманам, то в сердцах, чтоб найти, наскрести там еще немного любви, чтобы набрать хоть необходимой мелочи. Но эмоция спряталась, нежности не было, и между ними повеяло холодком незнания друг друга. В сущности, кто он ей и кто она ему? В ее крике почудился ему совсем чужой и неизвестный человек.
Но ни тот, ни другая не имели мужества сознаться а своих чувствах. Они продолжали лгать.
— Милая, вы так испугались за меня?
— О, как вы могли!
Это звучало в полном соответствии с минутой и обстановкой. Но последняя лишняя трата окончательно перегрузила их маленькую наличность, и любовь, — еще утром казавшаяся стихийной, — объявила банкротство. Ей уже было неловко, ему уже хотелось быть поближе к спокойной Елизавете Павловне, — и вся история начинала казаться отяготительной.
Здесь и конец моей сказке. Пароход вышел из Коринфского канала и задымил дальше, везя наших героев к далекой родине, к событиям, газетным и действительным, к тому, что принято называть «мировым» и что на самом деле, если поглядеть в корень, — не так уж далеко ушло от описанной мною маленькой «частности».
1919Впервые в сб. «Перевал». Екатеринодар, издание газеты «Утро юга России», 1920. Вошел в сб. «Избранные рассказы». Л., «Прибой», 1927. Сама М. Шагинян указывает: «Коринфский канал», «Темная комната», «Единственный», «Где я?» писались в первые годы революции на Дону…»
В виде контраста, как противоположность (лат.).
Грандиозное и гигантское (фр. — enorme et gigantesque).