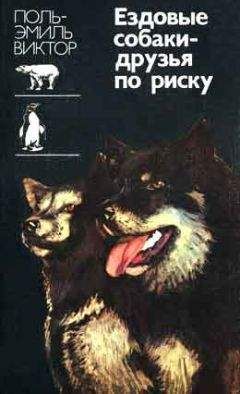Хоть он и крепко зажимал рану, однако кровь, горячая и липкая, растекалась уже по животу, сползала ручейками под ремнем в брюки. Чем дальше, тем труднее было поднимать ноги. Может быть, голенища уже полны крови и поэтому они такие тяжелые? Перепутанных корневищ и коряг стало слишком много, хотя на рассвете он легко и свободно шел здесь с передовой. Какой звонкий и веселый стоял тогда лес по пояс в воде!
Было тихо, солнечно и как-то вяло, а неясные деревья качались от верхушек до самой воды, прыгали, как на экране. Или, может быть, это только их отражения качались в воде, изломанной зыбью? Старшине хотелось сесть, окунуться в воду по шею — пить и спать, спать и пить. Все вокруг мутнело, словно придавленное тяжелым летним зноем.
А батарея била уже совсем близко, где-то вон за теми деревьями. Гуменный уже насчитал больше выстрелов, чем было снарядов на огневой. Где они достают снаряды? Или он уже считает и выстрелы противника и все складывает вместе?
Он зачерпнул воды рукой. Когда пил, увидел, что «господин профессор» обернулся и что-то сказал мадьярам. Гуменный одним глазом искоса следил за учителем, за его блестящим бритым затылком. Опять демократия, опять цивилизация… Что он им бубнит? Не уговаривает ли, часом, бросить снаряды и возвращаться за Мораву?
— Давай! — хрипит старшина, оглядываясь и подгоняя носильщиков. Лицо у него белое, как гипс. — Давай!
Мокрые космы чуба беспорядочно свисают на глаза, и он с трудом поднимает руку, чтоб откинуть их.
Батарея бьет, стреляет, зовет его, как живая: «Скорей, скорей, старшинка, потому что мне трудно!»
Идут.
Учитель за спиной снова что-то говорит своим. Те гудят, бормочут, покачивая усами. Старшина оглядывается и видит, как надвигаются прямо на него учительская черная борода, и «екатеринославский» дедок, и тот длинноногий верзила в штанах-трубах. Что они хотят делать?
А «екатеринославец», размахивая своей глиняной трубкой, заводит с ним разговор. Он говорит, что «пан профессор» объяснил им все. Они знают, почему «тувариш старшина» держит руку за пазухой… Ведь за ним на воде все время остается кровавый след. Учитель говорит, что позор, если русский юноша будет итти со шрапнелью в груди, а они не помогут ему. Затем учитель говорит, что нужно им на своих плечах испытать, что такое борьба за демократию и цивилизацию, а не смотреть спокойно, как она распускается на воде молодой кровью. Только тогда они узнают, чего стоит цивилизация и как ее надо защищать! Иген![2]
Они сейчас заберут снаряды у «тувариша старшины» и понесут их сами. А он пусть показывает дорогу.
Расстегнули ранец на спине у Гуменного и разобрали снаряды.
Старшина смотрит на носильщиков и страшным усилием воли удерживается на ногах. Его удивляет, что лица, наплывающие сейчас на него сквозь моросящую муть, не хмурые и не злые, а по-настоящему добрые.
Двое взяли Гуменного под руки. Снова двинулись вперед. Не было на свете ничего, кроме водяной дороги, светящейся впереди. Он продолжал видеть ее между деревьями, задыхаясь в горячем тумане.
— Сюда, — говорил он время от времени. — Сюда…
Деревья, казалось, сжимали его с обеих сторон.
Вскоре, выгибаясь огромной подковой вдоль опушки, показалась дамба. На ней чернели окопы, сохли под солнцем серые шинели, перекликались бойцы. Из окопов они видны были только по грудь, словно солдаты росли из земли. Под дамбой стояли батальонные минометы и легкая артиллерия. Когда мадьяры, ведя Гуменного под руки, вышли из-за деревьев к батарее, кто-то из бойцов крикнул:
— Гляньте: старшинка!.. И гражданские!
Учитель с гордостью ответил:
— Нэм цивиль[3].
— Санзай, фельдшера! — крикнул своему ординарцу командир батареи, сразу поняв, в чем дело. — Фельдшера, быстро! Сюда!
А к мадьярам он вежливо обратился:
— Доброе утро!
Вместо приветствия они ответили хором:
— Спасиба!
С непривычки они путали слова благодарности и приветствия и часто употребляли одно вместо другого.
— За что они благодарят? — удивленно спросил командир батареи и, обведя взглядом своих бойцов, повторил: — За что спасибо?
Но мадьяры сразу обернулись к старшине, словно к нему была обращена их благодарность. Они переживали его подвиг.
Обессилевшего старшину товарищи усадили на землю, быстро начали раздевать. Он вынул из-за пазухи руку, судорожно сжатую в кулак.
Кулак был весь в запекшейся крови.
Командир батареи молчал, словно это было ответом на его вопрос.
I
Вижу, как ты выходишь из своей горной хижины и смотришь вниз.
— Тереза! — зовет мать, а ты стоишь не откликаясь.
— Тереза!
А ты улыбаешься кому-то.
Ветер гуляет в Рудных горах. Звенит сухая весна, гудит зеленый дуб на склонах, и вымытые камни смеются солнцу.
— Тереза! Кого ты высматриваешь?
А ты вскидываешь руки, словно хочешь взлететь: — Мамця моя! Пан бог видит, кого я высматриваю!
Высокое небо над тобой гудит от ветра, как голубой колокол.
II
На что ты засмотрелась? К чему прислушиваешься?..
Было морозно и пустынно, когда я постучал в твое окно. Слышал, что в доме не спят, но никто мне не отвечал. Там советовались. Из-под навеса бил снег и засыпал мне глаза. Белый ветер стонал в пустоте гор.
Я постучал еще раз. Осторожно, так, словно и в самом деле этот стук могли услышать там, далеко внизу.
— Кто вы?
Что мне сказать? Кто мы?
— Свои, — говорю и не слышу собственного голоса.
Третьи сутки вместо воды мы ели снег.
— Свои, — хриплю что есть сил.
Тогда в доме зазвенело так, словно солнечный луч сломался об оконное стекло:
— Мама, то русские!
Боязливо открылась дверь. Я вошел в комнату, держа автомат наготове. Нажал кнопку фонарика. В полосе электрического света замерла у стола испуганная мать, а ты возле высокой кровати застыла в удивлении, закрыв грудь распущенными косами.
Я погасил фонарик и сказал, чтобы завесили окна.
Мать зажигала лампу, и спичка дрожала в ее руке. Ты встала на стул, босая, чтобы закрыть окна.
Я стыдился смотреть на твои белые стройные ноги, но, отводя взгляд, все равно видел их.
Соскочив со стула, ты стала передо мной. Только сейчас я заметил, как разодран мой белый халат. Ты была в белом платье, а на рукаве черная повязка.
— Так это такие… русские?
— А какими вы их представляли?
— …Такими…
Ты протянула мне руку. А мои были красные, застывшие, в грязных бинтах. Бинты нам служили и рукавицами, которые мы потеряли, мытарствуя в проклятых скалах.
— Кто у вас бывает?
— Сегодня никого не было, господин солдат, — отозвалась мать.
Она стояла возле кафельного камина и печально смотрела на меня.
— А по ком вы носите траур?
— По нашему Франтишеку, — говорит мать.
— По Чехословацкой республике, — говоришь ты.
Выхожу во двор, миную кошару, где постукивают овцы, и тихо свищу. От скирды сена отделяется Илья, белый, как привидение. Замерз, ругается и спрашивает:
— Что там?
— Можно.
— И «баян» захватить?
— Давай.
Входим в комнату. Увидев печь, Илья улыбается. Ставит около двери «баян», отряхивается, удивленно вслушиваясь в славянскую речь.
— Так мы ж как дома! — восклицает он. — Я все понимаю!
— Мы тоже все понимаем. Мы словаки.
Мать показывает на наш сундучок возле порога.
— Что это у вас?
Ты догадываешься:
— Радио!
— Радио! — мать всплескивает руками. — Прошу: не надо, не надо его в квартире! Вы будьте, а его не надо. От него у нас все зло. Оно забрало нашего Франтишека.
Ее сын Франтишек всегда сидел над приемником до глубокой ночи. Слушал и Лондон и Москву. Неосторожный, хвалился на работе тем, что слышал. Но пришли собаки-тисовцы, разбили радио и схватили Франтишека. В прошлый четверг расстреляли его на карьерах. Штандартенфюрер говорит: «Партизан». Для них что словак, то и партизан. Скажите, пожалуйста, какой из ее мужа партизан? Лесник себе — и все! А тоже схватили и погнали рыть окопы. Прошу: не надо новой беды!
— Мамаша, — утешает Илья, — оно немое.
— Не надо, господа солдаты!
Илья берет рацию и уносит ее из хаты. Теплой волной дышит камин, греет, как спирт. Чувствую, как с дрожью выходит из меня горный холод. Из осторожности мы трое суток не разводили огня. Мы то ползли, как белые ужи, в камнях, высоко над шоссе, то забирались на самый кряж, откуда видны были все батареи в тылу противника. Вызывая время от времени «Симфонию», передавали все, что было нужно.
Часто меняли стоянки. Это нас изводило. Перекочевывая из ущелья в ущелье, мы не раз, особенно ночью, срывались в какие-то пропасти. Будь меньше снега, мы, наверное, свернули бы себе шеи. А так только изодрали руки, сбили колени, изорвали халаты и, что самое обидное, повредили рацию.