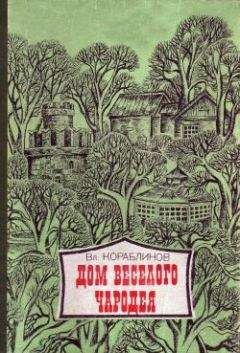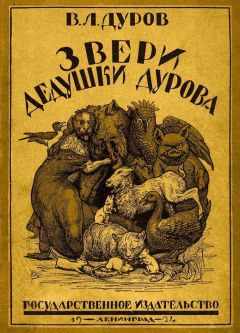Впрочем, еще и третье надо упомянуть. Оно, это третье-то, и послужило когда-то Ивану Дмитричу поводом для знакомства с популярным артистом: крестный увлекался живописью, вернее сказать, любительствовал д л я д у ш и. Как-то, бродя с этюдником, он встретил господина, сидящего за складным мольбертом у самой воды. Господин был красив, осанист, одет в перепачканную красками блузу; легкая панама сидела небрежно, набекрень, по-художницки.
Крестный отлично знал, кто это, и даже искал с ним знакомства, да все случая не представлялось.
Подойдя поближе, интересуясь как любитель – что там такое получается на холсте, он едва не вскрикнул от изумления: в натуре перед глазами струилась река, плавали утки, баба в красной, высоко подоткнутой юбке колотила вальком бельишко… а на картине знакомого незнакомца высились горы со снежными шапками, в черно-синей туче змеилась голубая молния и на гнедой лошади скакал черкес.
Не оборачиваясь, но чувствуя чье-то присутствие за спиной, господин в блузе резко сказал, что терпеть не может, когда глазеют на его работу. Иван Дмитрич извинился и возразил с приличным достоинством, что, «будучи в некотором роде также художником, не мог не поинтересоваться»… и так далее. Дуров (это был он, конечно) засмеялся: «А, значит, собрат по искусству!» Вот так они и познакомились.
С возможной, разумеется, деликатностью крестный спросил, почему у достоуважаемого Анатолия Леонидыча вместо реки и прачки получились горы и черкес. На что Дуров самым серьезным образом ответил, что такова природа искусства, что, хотя в данную минуту телом он здесь, а душой, представьте себе, – на Кавказе. И даже местечко какое-то назвал, географическое наименованье, что-то вроде Матлас или Матрас, – какое-то реально существующее в кавказских горах селенье.
Много позднее, рассказывая мне о Дурове, он не раз упоминал историю своего знакомства с ним, и всякий раз (хотя по малолетству я кое-что не совсем понимал) в голосе, в интонации крестного явственно слышались недоумение и снисходительная усмешка над чудаком.
Дом же Ивана Дмитрича, разделенный на две обособленные квартиры, имел шесть комнат; в трех он жил сам, а три сдавал внаем. В те годы он еще ходил в холостяках, считался завидным женихом; очень любил меня и даже как бы в шутку уговаривал моих родителей отдать меня ему на воспитание.
Будет случай, я расскажу о нем подробнее. По тем серым, полусонным временам он все же являлся фигурой довольно занятной. Но это – в дальнейшем, а сейчас вернемся в столовую дуровского дома, где Елена Робертовна (Еленочка, как называл ее Дуров, или Бель Элен, как именовалась она в цирковых афишах) разливала по тарелкам приправленный жареными донскими бирючками и свежим укропом, ароматичнейший суп, который Анатолий Леонидович рекомендовал гостям как в о р о н е ж с к и й.
Тертым калачом почитал себя столичный литератор, но тут и он не вдруг разобрался – что это: уголок ли бродячей кунсткамеры, лавка ль антикварная, благотворительный базар или лотерея, как они устраиваются – с пышными портьерами, с коврами, с вычурными киосками, где расфуфыренные барыньки торгуют дрянным шампанским, продавая его по четвертному билету за бокал. Именно все это было и здесь – бархатные портьеры с помпончиками, масса ненужных вещей, среди которых два серебряных самовара, выставленных напоказ, как бы для лотерейной приманки; ковры на полу, на стенах; вычурная резная мебель, расшитые петухами полотенца, цветами, гирляндами роз расписанный потолок…
Обеденный стол блистал, сервированный как-то странно – и безусловно показно и запросто в то же время. Тут и дорогой севрский фарфор чаровал, и гарднеровская музейная посуда, а рядом – хлебница деревянная, купленная за полтину в щепном ряду, с нарезанным по краю изреченьем: «Не красна хата углами, красна пирогами», и солонка такая же, какую в любой мужицкой избе найдете…
Стол был накрыт на восемь персон, и что уж слишком бросалось в глаза – так это приборы: разномастные вилки, ложки со стершейся амальгамой. Именно такая неразбериха или, лучше сказать, разнобой в сервировке сперва немного смутил Б. Б.: что это? Вспоминая только что виденное богатство, он недоумевал. Но когда за столом собрались все: Прекрасная Елена, дети и два гостя – некто господин Чериковер, коммерсант, и присяжный поверенный Сергей Викторыч Терновской, и хозяин дома, наполнив бокалы красным винцом, встал и торжественно, зычно, как на манеже, провозгласил:
Под кровом хижины моей,
В порыве искреннего чувства,
Я рад в лице моих друзей
Приветствовать науку и искусство! —
он понял, что это – театр, представление, где хочешь не хочешь, а быть тебе на скромной роли второстепенного лицедея, статиста даже, потому что первенство уверенно захватил хозяин, и уж до самого конца гостеванья, будьте покойны, не уступит никому…
Уразумев это, столичный гость принялся с любопытством разглядывать общество. Детей было трое: две дочери – старшая, уже замужняя Евлампия (ее называли Лялей), веселая хохотушка, изумительно точно повторившая в красивом личике черты отца (особенно в глазах, в улыбке); Мария, прелестная семнадцатилетняя девушка с мечтательным, немного томным взглядом глубоких синих глаз; и, наконец, сын Анатолий, мальчик в том возрасте, когда начинает ломаться голос и как бы вчерне намечается облик будущего мужчины. Он то и дело ввязывался в разговор взрослых, ни минуты не сидел спокойно, вертелся живчиком, заговорщически подмигивал господину Чериковеру, с которым, видимо, был дружен. Сей последний сиял морозной хрусткой белизной манишки, брильянтовой булавкой в пышном галстуке, обширной, гладкой, как бильярдный шар, лысиной, ослепительными зубами. Аромат тончайших духов витал вокруг него, подобно легкому облачку.
– Профессор всех наук! – представил его Анатолий Леонидович. – Чудотворец и волшебник. Что бы я делал без него!
Терновской оказался старым другом хозяина, его правой рукой по делам судейским, сутяжным.
– Неужели и в вашем райском уголке существуют передряги, тяжбы? – очаровательно улыбнулся Б. Б.
– Куда ж от них денешься! Разве что на Марсе…
– А там каналы открыли! – выпалил Анатолий-младший.
– Ах, Анатоль! – Елена Робертовна с деланной строгостью поглядела на мальчика. – Какой ты… – смутясь, подыскивала слово. – Какой ты… ну, как это?
– Оболтус, – серьезно подсказал Дуров.
Говорили о воронежских новостях – о предстоящих гастролях Шаляпина, об открытии новой гостиницы и ресторана «Бристоль», о знаменитом борце Иване Заикине, который вдруг сделался авиатором, окончил во Франции летную школу и нынче разъезжает по русским городам, показывает свои удивительные полеты. Заикина Дуров знал давно, отношения их были чуть ли не дружескими. Восторгался шумно:
– А? Каков? Чертяка, еле фамилию царапает, а вот подите – Париж, дружба с самим Фарманом, всемирная слава… Ах, господа, что может русский мужик!
– Действительно, многое может, – согласился Чериковер, – если б не кабак.
Тут Проню вспомнили. Был такой воронежский, на всю Россию знаменитый силач; во многих борцовских чемпионатах участвовал да ведь каких богатырей кидал на ковер!
– Приятель мой, – вздохнул Дуров.
– И что же? – полюбопытствовал Б. Б.
Чериковер сделал красноречивый жест.
– Сгорел-с.
– А я его хорошо помню, – снова встрял Анатолий-младший. – Он мне деревянных коньков вырезал.
– То-лья! – пропела Прекрасная Елена.
Однако главным предметом разговора сделалось недавнее покушение на губернатора. Взрыв бомбы на Большой Дворянской прогремел на всю губернию, даже в самом Петербурге отозвался. Оттуда летели запросы: кто? При каких обстоятельствах? Раскрыта ли организация? Приказы летели: произвести расследование немедля! Заговорщиков предать суду! Строго наказать!
Бомбометателя задержали. Им оказался юнец, исключенный из гимназии, болезненный, хилый цыпленок. Но он молчал, следствие топталось на месте. Угадывая политическую организацию, полиция арестовала десятки людей, однако тайное пока что оставалось тайным, гимназист продолжал безмолвствовать.
– Что за молодец! – восхищался Дуров. – Руку готов пожать, спасибо, разуважил! Его превосходительство! Лучшей мишени не придумать, клянусь честью! А что? Верно, господа! Что клопа раздавить, что этакую высокопоставленную чинушу прихлопнуть…
– Ну, пошел! – Чериковер сверкнул перламутровыми зубами, захохотал, откинувшись на причудливо вырезанную спинку стула.
«Эк его, действительно… орет на всю улицу! – зябко поежился Б. Б. – Влипнешь тут с ним в историю…»
А Дурова и верно несло.
Он видел перед собою душную тесноту переполненного цирка, слышал гогочущую в полумраке галерку… Смех, свист, аплодисменты… «Браво, Дуров! Так их, чертей!»
– Нет, каков трюк! Милостивые государыни и государи! Вот перед вами обыкновенный губернатор, губернатор вульгарис, так сказать… Айн, цвай, драй! Але-ап! И нет губернатора, мокрое место!