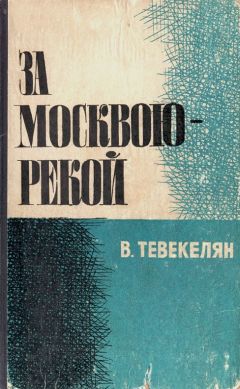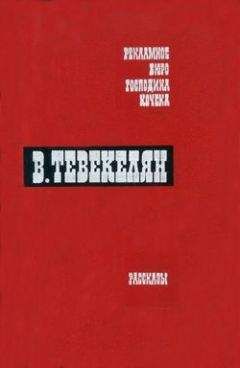— Приветствую вас, мои юные друзья, знакомые и незнакомые! — громко сказал он густым, бархатистым голосом и, положив руку на сердце, низко поклонился. Выпрямившись, он отрекомендовался: — Юлий Борисович Никонов, близкий друг этого дома и ваш покорный слуга.
Мелкими, пружинящими шажками, он подошел к Милочке.
— А вас, дорогое дитя, поздравляю от всей души, желаю много, много счастья и прошу принять мой скромный дар! — Он пожал ее руку и протянул маленький сверток. — Я достал вам французские духи — прелесть! — нагнувшись, прошептал он и повернулся к гостям.
— Борис Вениаминович! — радостно воскликнул он, увидев Бориса, и протянул ему руку. — Очень, очень рад!.. О! И Никитин с милой Наташей тоже здесь, и, конечно, знаменитый красильщик Сергей Трофимович Полетов! Здравствуйте, Наташенька. Как вы похорошели! А где же наша уважаемая хозяйка?
И как бы в ответ на его вопрос на лестнице появилась Лариса Михайловна. В пестром шелковом платье, с обнаженными руками, густо напудренная, величаво подняв голову, она медленно спускалась вниз. Дойдя до последней ступеньки, она остановилась, как бы давая возможность полюбоваться своей особой во всем блеске и великолепии.
Юлий Борисович подскочил к хозяйке и поцеловал ее пухлую ручку.
Лариса Михайловна обошла всех гостей, и для каждого у нее нашлись приятные слова. Пожав руку Борису, она спросила: «Здоровы ли ваша мама и уважаемый Вениамин Александрович?» Студенткам она снисходительно сказала: «Как вы похорошели, девушки!» А когда подошла к Никитину и Наташе, то изобразила на лице восторг и разразилась потоком любезностей: «Как я рада, Николай Николаевич, что вы пришли и привели с собой Наташеньку. Вы всегда для нас самые желанные гости!» Одному Сергею Полетову она не сказала ничего.
Затем Лариса Михайловна объявила, что Василий Петрович занят в министерстве и, как обычно, опоздает.
— Не будем ждать его, — добавила она и пригласила всех к столу.
Задвигались стулья, гости расселись. Хозяйка заняла место во главе стола, и Юлий Борисович поспешил устроиться рядом с ней. Никитин, Наташа и Сергей Полетов оказались в самом конце стола. К ним присоединился и Леонид.
На минутку все стихли. Воспользовавшись этим, Никонов встал с полным бокалом в руке:
— Прошу наполнить бокалы, — скомандовал он, как заправский тамада, и произнес цветистую речь о неповторимой юности, овеянной таинственной и светлой романтикой, о силе и обаянии бескорыстной женской любви, делающей нас лучше, чем мы есть, и дающей силы переносить жизненные невзгоды. Тут он многозначительно посмотрел на Ларису Михайловну и поздравил Милочку.
После нескольких бокалов вина гости заметно оживились.
Один Сергей сидел невеселый, молчаливый.
— Что с вами, Сережа? — спросила Наташа, наклонившись к нему.
— Со мной? Ничего.
Он улыбнулся, тряхнул русой головой и, делая вид, будто занят едой, склонился над тарелкой. Почему-то сегодня особенно все в этом доме казалось ему чужим и неприятным. Чужими и неприятными были странные стихи, которые читал незнакомый Сергею бледный юноша, уставившись маленькими, глубоко посаженными глазами в одну точку.
— Поэма. Введение.
Врезанный в века
двадцатого рамки, я иду — голова вверх.
Я иду.
И
пропади все пропадом, если
я
не первый
из первых!..
Сергей поймал восторженный взгляд Милочки, устремленный на поэта, и ему стало обидно за нее, захотелось увести ее отсюда.
А Вадим читал уже новые стихи, его голос доходил до Сережи, будто сквозь глухую стену, и тот делал над собой огромное усилие, чтобы понять их смысл.
В терему ты,
моя отрада.
В терему ты,
и в терем этот
хода
нет,
На двери замок.
Поднимая отмычку взгляда,
В терем этот ползут и едут.
Ну и что? Ну и как?
Не надо.
Я не смог.
Вновь раздались рукоплескания, а Сергей еще ниже опустил голову.
— Ну, Леночка, теперь твоя очередь, выдай что-нибудь цыганское! — кричал полупьяный Борис, неистово хлопая в ладоши.
Чужим и неприятным было и то, что пела девушка в черном бальном платье, и то, как она пела. Низкие, глуховатые звуки ее голоса вдруг сменялись трагическим, надрывным шепотом.
…Вернись! Я все прощу,
Упреки, подозренья,
Мучительную боль невыплаканных слез,
Укор речей твоих, тревожные волненья,
Позор и стыд твоих угроз…
«Господи, и где она выкопала это старье!» — с тоской думал Сергей и сердито отодвинул от себя тарелку.
— Танцы! Давайте танцевать! — кричал Борис. — Саша, друг, покажи свое искусство!
С недавних пор Милочка вела себя по отношению к Сергею не так, как обычно: не отвечала на его записки, приезжая в город, не звонила по телефону и, казалось, избегала встреч с ним. Поразмыслив, Сергей решил, что им следует обязательно поговорить откровенно. «Близким друзьям незачем играть в прятки», — внушал он себе.
За неделю до дня рождения Милочки он три часа простоял у театральной кассы, купил билеты на «Московский характер» в Малый. Он считал, что удобнее всего будет поговорить с нею по дороге на вокзал после спектакля или даже в электричке, провожая ее до самой дачи. И вот теперь, улучив подходящую минуту между танцами, он подошел к Милочке и пригласил ее в театр. Ему показалось, что она смутилась — отвела глаза и каким-то чужим голосом быстро ответила, что еще не знает, сумеет ли освободиться в среду. Сергей не стал просить, не стал настаивать. Он только подумал про себя: «Ну вот, так я и знал», — и отошел от нее в сторону.
И тут он понял, что между ним и Милочкой все кончено. «Ну и пусть, и пусть!» — зло твердил он, стараясь притушить свою боль. Однако ему это не удавалось. Он как-то сразу утратил ко всему интерес, и все, что окружало его здесь, стало ему еще более чужим. Невыносимо было оставаться дольше в этой душной комнате, видеть, как Борис, танцуя; подпрыгивает и ломается, слушать тощую Лену и наблюдать за притворно любезными ужимками Ларисы Михайловны. Ни с кем не прощаясь, он незаметно вышел в переднюю, отыскал свое пальто и ушел.
Дождь усилился. На пустынных дорогах дачного поселка грязь, лужи. Сергей шел, ничего не замечая. «Она завела новых друзей, ей скучно со мной. Странно: раньше я мог говорить с ней о чем угодно, а теперь увижу ее — и язык отнимается. Посмотришь на других — люди как люди, держатся непринужденно, танцуют, веселятся, — а я стою, словно чурбан, не знаю, куда руки девать. Конечно, ей скучно со мной… Но в чем же дело? Может быть, я сам виноват?..» Вдали, сквозь завесу моросящего дождя, тускло мерцали огоньки железнодорожной платформы, и время от времени с грохотом проносились длинные, ярко освещенные составы…
4
К одиннадцати часам на дачу приехал Василий Петрович. Отпустив машину и подойдя к застекленной террасе, он заглянул в столовую. Веселье было в полном разгаре. «Ну, мне здесь, кажется, делать нечего», — подумал он и, обогнув дачу, с черного хода зашел в кухню, где сбившаяся с ног Любаша мыла посуду.
— Принесите мне, пожалуйста, наверх стакан чаю и чего-нибудь поесть. Только не проболтайтесь, что я приехал, — предупредил он и на цыпочках поднялся к себе в спальню.
Василию Петровичу было не до гостей. День выдался тяжелый, с самого утра начались неприятности и цепочкой тянулись до самого вечера. На Невинномысской мойке опять запоздали с отгрузкой шерсти, а на двух фабриках срывалось выполнение плана, на базе Мосторга забраковали большую партию платков, — назревал скандал, а тут еще приказ министра о назначении инженера Власова директором Московского комбината. Василий Петрович в самой категорической форме возражал против этой кандидатуры, но с ним не посчитались, и это рассердило, обидело его…
День прошел в хлопотах. Беспрерывным потоком шли посетители, не переставая трещали телефоны, то и дело заходили в кабинет работники аппарата с разными бумагами и требовали срочно подписать. Только к вечеру Василий Петрович смог заняться почтой. Среди множества циркуляров, инструкций, требований он натолкнулся на контрольные цифры четвертого квартала, разработанные плановым управлением министерства. План по главку опять увеличивали.
— Чиновники, совсем оторвались от жизни! — сказал вслух Василий Петрович и, позвонив секретарше, велел позвать начальника планового отдела.
Запершись, они с плановиком долго ломали голову, какие бы найти убедительные доводы, чтобы опротестовать увеличение плана. Дело осложнялось еще тем, что в министерстве хорошо знали о резервах и неиспользованных производственных мощностях руководимого Василием Петровичем главка. Оставался единственный якорь спасения — нехватка сырья. Подбирая формулировки поосторожнее, они написали письмо на имя министра.