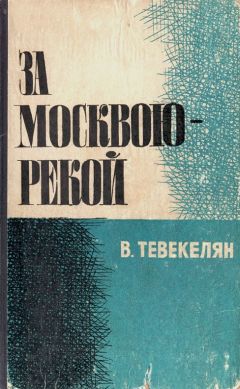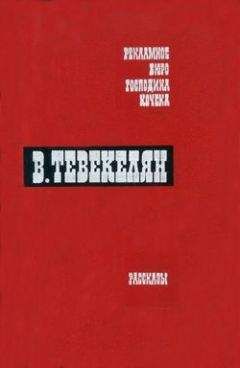Запершись, они с плановиком долго ломали голову, какие бы найти убедительные доводы, чтобы опротестовать увеличение плана. Дело осложнялось еще тем, что в министерстве хорошо знали о резервах и неиспользованных производственных мощностях руководимого Василием Петровичем главка. Оставался единственный якорь спасения — нехватка сырья. Подбирая формулировки поосторожнее, они написали письмо на имя министра.
Часов в семь Василий Петрович собрался было на дачу, но в это время позвонили из секретариата заместителя министра и пригласили на срочное совещание по вопросам капитального строительства. Делать было нечего, пришлось собрать на скорую руку необходимый материал, пробежать цифры и спуститься вниз.
На совещании говорили много и нудно. Как и следовало ожидать, ничего срочного не оказалось, — речь шла о том, чтобы любой ценой освоить до конца года ассигнования по капитальному строительству. У Василия Петровича разболелась голова, он плохо слушал, о чем говорилось, стараясь скрыть зевоту.
По дороге домой, утомленный и как-то внутренне опустошенный, Василий Петрович подумал: «Хорошо бы сейчас лечь, закрыть глаза, обо всем забыть…» Но вспомнил о дне рождения падчерицы, досадливо поморщился и махнул рукой.
В спальне, сбросив пальто на диван, он надел пижаму и пошел умываться. Холодная вода несколько успокоила его, головная боль стала стихать, но что-то по-прежнему тяжело давило на сердце. Он распахнул окно. Вместе с потоком сырого воздуха в комнату влетел желтый лист, сорванный ветром. «Да, лето прошло», — подумал Василий Петрович, облокотившись на подоконник и вслушиваясь в бормотание дождя.
Соседи уже давно переехали в город, пустые дачи сиротливо чернели среди деревьев — нигде ни огонька. Василий Петрович не раз предлагал жене перебраться на московскую квартиру, но Лариса Михайловна, внушив себе, что дачный воздух даже поздней осенью благотворно влияет на ее здоровье, упрямо оттягивала переезд.
Любаша принесла пирожки и крепко заваренный чай. Василий Петрович, страдавший изжогой, только с завистью посмотрел на аппетитные, тепленькие пирожки. Выпив пустой чай, он зажег свет у изголовья кровати, взял газету и лег в постель.
Внизу опять начались танцы, и от топота ног дрожал весь дом. Шум мешал Василию Петровичу сосредоточиться и вникнуть в смысл статьи о причинах очередного падения французского кабинета. Начав статью в третий раз и убедившись, что ему все равно не удастся прочесть ее, он отложил газету, потушил свет, натянул на голову одеяло и попытался уснуть, но напрасно — чувство какой-то затерянности, одиночества и тревожные мысли не давали покоя.
Снова осень, еще год вычеркнут из жизни. Молодость давно прошла, он ожирел, тело стало тяжелым, дряблым. В прошлом году, седьмой раз, он ездил в Кисловодск и за месяц, ценой строгой диеты, похудел всего лишь на килограмм. Ко всем бедам прибавились проклятые головные боли… Жизнь показалась вдруг Василию Петровичу пустой, бесцельной. Зачем, во имя чего столько забот, столько суеты? Ну, допустим, достиг он определенного положения, живет с некоторым комфортом. По правде говоря, далось все это ему нелегко. То, что другие получали запросто и, как ему казалось, без особых хлопот, Василию Петровичу приходилось завоевывать с боем, ценой неимоверных усилий. Личная жизнь тоже не удалась. В юности — вынужденная женитьба на Дарье, женщине, лишенной всякого вкуса, эмоций, а главное — без стремления к чему-то лучшему. Наседка с узким мирком, муж, сын и дом — вот весь круг ее интересов. Потом холеная Лариса, пустышка с претензиями, эгоистка до мозга костей. Разве о такой женщине он мечтал?
Говорят, каждый человек — кузнец собственного счастья. Справедливо. Всего, чего он достиг, достиг сам, без чужой помощи. Но, вечно занятый работой, он не имел возможности заниматься личными делами. И вот результаты. Нет у него семьи, он чужой здесь, в своем доме…
Топот ног внизу прекратился. Теперь пела какая-то девушка, — тоненьким, дребезжащим голоском приглашала она друга «в шатры к цыганам». Головная боль усилилась. Василий Петрович вынужден был встать и принять таблетку тройчатки.
«…Завоевывать с боем, ценой неимоверных усилий!» Слова! Да, много, очень много потрудился он на своем веку, но кто оценил его труды? Никто. Вот министр обошелся с ним как с мальчишкой — взял и назначил этого Власова директором. А как он, Василий Петрович, просил не делать этого, какие приводил убедительные доводы… Теперь иди возись с Власовым…
В столовой наступила тишина, — по-видимому, гости расходились. Под окном кто-то громко сказал: «Тащись теперь пешком до станции, а там целый час трясись в проклятой электричке. Знай я это, вызвал бы свою машину. Обещала ведь, что подвезут…» Василий Петрович узнал голос Бориса. «Действительно, получилось неудобно! Чего доброго, пожалуется отцу», — подумал Василий Петрович и закрыл глаза. Ему еще предстояло объяснение с женой…
1
Сережа жил с матерью в одном из многочисленных, похожих друг на друга проездов в Сокольниках. Дом Полетовых был старый, маленький, всего в две комнаты, с кухонькой и холодными сенями. Перед окнами палисадник с пышно разросшимися кустами сирени.
Дом этот имел свою историю. Полвека назад дед Сергея, ткач Назар Полетов, уже немолодой человек, полюбил круглую сироту крутильщицу и тайком обвенчался с нею. Администрация фабрики узнала об этом. Женатым жить в казарме не разрешалось, и Назара с молодой женой вышвырнули на улицу. На помощь пришла рабочая касса, о существовании которой Полетов и не знал. Ему выдали ссуду, и Назар приступил к постройке дома. Отец Сергея, Трофим Назарович, частенько говаривал: «Наш дом беречь надо, он на рабочие копейки построен». Самая большая комната, так называемая столовая, была разделена ширмой на две половины — в одной обедали, в другой стояли кровать Сергея, его маленький письменный стол, купленный еще тогда, когда он учился в школе, и этажерка с книгами. Во второй, опрятно убранной комнатке, оклеенной голубыми обоями, с геранями и столетниками на окне, спала мать, Аграфена Ивановна.
Дойдя до своего дома, Сергей машинально постучал в окошко, но тут же вспомнил, что мать работает в ночной смене. Нагнувшись, он пошарил рукой под ступеньками, нашел ключи. В сенях снял мокрые ботинки, надел тапочки. Пройдя к себе, зажег свет, переоделся и сел за письменный стол. Устало подперев голову руками, он долго сидел неподвижно. Не хотелось ни думать, ни вспоминать, но мысли невольно возвращались к вечеринке, заставляя переживать все вновь. И он снова видел смущенное лицо Милочки, видел, как она потупила глаза. «Не знаю, сумею ли освободиться в среду…» И это сказала доверчивая, всегда такая ласковая Милочка, которая когда-то клялась ему в вечной дружбе и лишь недавно сетовала на то, что они редко встречаются…
За ширмой мирно тикали стенные часы. Пробило три. Сергей встал, подошел к кровати, но не лег, а снова вернулся к столу. Он достал из ящика заветную тетрадь, которой доверял сокровенные свои мысли, раскрыл ее на чистой странице и четким почерком вывел:
«17 сентября 1949 года
Сегодня я впервые познал горечь разочарования…»
Нет, очень уж высокопарно получается: познал горечь разочарования! Так не годится, нужно писать проще…
А нужно ли вообще писать? Он отложил ручку и начал перелистывать дневник. Пожелтевшие страницы, разные чернила, даже почерк неодинаковый — то неуверенный, детский, то размашистый, с четкими буквами.
Вот первые записи:
«22 ноября 1938 года
Решил стать летчиком. Мое решение окончательное и бесповоротное».
От этих двух строк, написанных корявым мальчишеским почерком, вдруг так сильно повеяло полузабытым детством — шумным, озорным, наивно-романтическим, — что Сергей невольно улыбнулся.
«8 апреля 1939 года
Сегодня с Вовкой пускали на улице планеры. Мой планер залетел к нам в садик и разбил стекла парника, где папа выращивает в горшках рассаду. Папа рассердился и отругал меня. «Постыдился бы, — сказал он, — вон какой дылда вырос, в летчики метишь, а балуешься, стекла бьешь». Большое дело — одно стекло, подумаешь, будто летчики не ошибаются… Взять того же Валерия Чкалова — какой он был герой и то налетел на проволоку.
…Вообще-то, если хорошенько разобраться, невезучий я, — вечно со мной что-нибудь приключается. Если я с ребятами гоняю мяч по нашей улице, то обязательно попаду в чье-нибудь окно или собью с ног девчонку. Драться тоже часто приходится. Не виноват я, что ребята у нас такие, слов не понимают, вот и приходится пускать в ход кулаки. Мать часто плачет из-за меня, говорит, что у всех дети как дети, а я хулиганом расту. Не пойму — характер, что ли, у меня такой? Иногда самому тоже достается, — ну и что ж, не бегать же из-за каждого пустяка к матери жаловаться, — как делает рыжий Колька? Летчик должен быть отважным, нужно характер вырабатывать…»