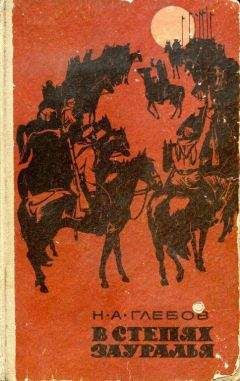Филипп шел привычной торопливой походкой. Земля, напитанная весенней влагой, как бы мягко выгибалась под ногами, пружинила шаг, но к сапогам уже не приставала. Маленькая речушка отрезала от хутора кривую улицу — Заречку. Справа тянулись широкие пустыри под сухостоем лебеды и ромашки, а слева — кулиги низкорослых молодых садов, перемеженных разлапистыми вербами, да огородные глубокие канавы. В стороне от дороги чернела кузница, саманными стенами вросшая в землю.
Набухавшие почки вишенника и подростков яблонь сочили чуть внятные запахи. Пахло прошлогодней прелью и сыростью. Филипп всею грудью вдыхал эти апрельские запахи, и на сердце у него было легко и спокойно. Скоро он будет ходить по пашне, нагретой солнцем, расчесывать ее бороной, в черноземную мякоть зарывать пшеничные зерна. И не нужно будет по ночам ходить в рискованные разведки, выполнять приказы, иногда сумасбродные, ненавистных господ офицеров, опасаться нападения турок.
А после работы, в свободные вечера, он будет приходить к ней, с кем неразлучны воспоминания о далекой юности, смотреть безотрывно в ее большие ласковые глаза, слушать бесхитростные рассказы о том, чем полна ее жизнь…
Воображение Филиппа все ярче и подробнее рисовало картину мирного домашнего уюта… Но вот память непрошенно подсунула худое облезлое плечо быка, и Филипп поморщился.
Глухой, сдержанный гомон, хлынувший с площади, рассеял его мирные мысли.
«Кто же это мог приехать? — подумал он. — Белопогонник или красный? Но откуда взяться красному? Из Донского ревкома — слишком далеко. Едва ли он проберется в такую глушь. А поблизости, кажется, тут не было никаких частей. Нешто сверху, оттуда — прямо из Москвы?»
На площади, возле церковной ограды, как загон подсолнухов в цвету, — толпы казаков. Бордовые околыши фуражек и лампасы праздничных брюк бездымным пламенем млели на солнце. Толпа колыхалась, бурлила. Седые расчесанные бороды вскидывались кверху, лоснились.
В стороне круга — небольшая горстка фронтовиков. Сплевывая, фронтовики курили, перекидывались шутками, изредка посмеивались. Но лица у всех были серьезны, напряженны. Среди казаков, в голубом мундире атаманца, блестел погонами высокий молодой офицер — Арчаков Василий. Филипп направился к фронтовикам. От них отделился широкоплечий грузный казак, батареец, с полным усатым лицом и остановил его.
— Ты что же это, господин урядник, не при форме? — Он сощурил смеющиеся глаза, поймал Филиппову руку и потопил ее в своей пухлой глубокой ладони. — К шапочному разбору ты, паря, угодил.
— Я, Андрей, не знал. — Филипп приподнял голову и заглянул батарейцу в лицо. — Спасибо, отец сказал, а то бы совсем не пришел. А что у вас тут? Про советскую власть рассказывает? А ну-ну, давай послухаем. Кто он такой?
Посреди круга, вдавив в землю табуретку, размахивал руками сухопарый военный. На нем — линялая казачья фуражка, ветхая побурелая шинель, видавшая виды. Он всем корпусом поворачивался из стороны в сторону, вскидывал голову. На небритой шее от тугого воротника гимнастерки выступали лиловые полосы. Отрывистым командным голосом кидал незнакомые, тяжеловесные слова. Казаки слушали с жадным любопытством. Плотной стеной они грудились вокруг оратора, дышали друг другу в лицо махорочным перегаром, путались бородами.
— Брехня! Самая наглая брехня! Вы не верьте ему! — с чуть заметным раздражением отвечал оратор на чью-то каверзную реплику. — Красная гвардия не трогает казаков и не будет трогать. Наш отряд почти весь из казаков. И землю у вас никто не отбирает. Как был ваш юрт, так и останется, никто его не положит в карман. Советская власть отбирает землю только у помещиков да у купцов, ссаживает их с вечных участков.
— Так им и надо! Понахапали, сволочи! — взметнулся чей-то несмелый тоненький голос. Но его захлестнул другой, басовитый:
— У помещиков — ладно. У них — по наследству. А ежели который своим хребтом?
— Своим хребтом? — бледнея, выкрикнул оратор и сверлящим взглядом впился в приземистого, с курчавой бородой старика. Тот стоял чуть позади атамана, уткнувшись бородой в его плечо. — Своим хребтом, говоришь? Вечный участок ваш гуртоправ Веремеев своим хребтом нажил? Ты это хорошо знаешь? А у кого на перегонах замерзали батраки? А кто гнет спину у него на хуторе? Своим хребтом! Не-ет, станишничек, таких вот… — оратор, вскинув руку, указал на большой с балконом дом Веремеева, с высокими вокруг него тополями, и старики, как по приказу, повернули головы, — таких вот мы как раз и разбиваем в пух и прах.
«Сукин сын, как смело действует, — с внутренней тревогой восхищенно подумал Филипп, — ведь его же свяжут тут».
Ошеломленная толпа мгновенно присмирела, стихла — так стихает летний день перед зловещей полуденной грозой. Казаки, точно оглушенные внезапным взрывом, молча хлопали веками, смотрели на оратора и не могли оторвать глаз от его возбужденного лица — на высоком лбу его выступили капельки пота.
О том, что где-то разоряют фабрикантов и купцов, — это чужое и далекое дело старики слушали как интересную, хоть и страшноватую новость. Но вот Веремеева… Ведь почти все чем-то обязаны ему. Каждый невольно вспомнил важную фигуру этого едва ли не первого богача в округе; вспомнил, как, бывало, приходили к нему в кабинет, еще на крыльце снимая фуражку и, боясь скрипнуть половицей, неслышно ступая на носках.
— Вот таких мы и разбиваем в пух и прах! Вдребезги! — еще тяжелее придавил оратор.
Хуторской атаман старик Арчаков, наклонив в сторону насеку[1] с посеребренным набалдашником, понуро стоял перед оратором, взглядывал на двуглавого со стертым крылом орла. В глаза навязчиво лезли буквы: «Всевеликого войска Донского». Растерянный взгляд его блуждал по начищенным сапогам казаков. Он видел, что дело дошло до «крамолы». Но как избавиться от этого, как тронуть непрошеного гостя? Ведь у него наверняка где-нибудь неподалеку целый отряд спрятан. Как иначе мог бы он говорить такие крамольные вещи. Теперь столько неожиданностей — умом можно рехнуться. Поднимая голову, атаман старался поймать взгляд сына-офицера, по-прежнему стоявшего в кругу фронтовиков, поодаль. Надеялся, что тот подскажет ему, как быть. Но сын, разговаривая с кем-то, даже и не смотрел в его сторону.
Филипп подошел к своему приятелю Ковалю, иногороднему, ремесло которого стало его прозвищем, толкнул его в спину. Коваль дернулся всем телом, выпрямился.
Оттертый толпою к срубу колодца, он с затаенным дыханием не сводил глаз с оратора. Его сутулая, раскрыленная фигура напоминала встревоженного грача, готового скакнуть перед полетом. В морщинистом, сухожилом лице его, под чахлым и редким кустарником бороды, застыло предельное напряжение. Он беззвучно шевелил губами, сухими пальцами тискал подпаленную горном бородку.
— Дьявол тебя мучает, — добродушно пробубнил он, увидя Филиппа, и от улыбки на его лице расправились морщины. — Ты что ж это околачиваешься тут, на отшибе? Уж меня, старика, вытолкали. А на твоем месте я был бы теперь в самой середине.
— Ничего, дядя Яша, мы и отсюда услышим. — Филипп подморгнул ему и кивком головы указал в сторону оратора.
Коваль раскрыл рот, хотел что-то сказать, но в это время стоявший впереди него парень — неуклюжий, рослый, с широкой, в обхват, спиной — попятился, навалился на него и прижал его к срубу.
— Освободи, бугаина! Масло, что ли, из меня выжимаешь!
— Го-го-го!. — заржал парень, напирая на него еще крепче.
Толпа разнобойно галдела, колыхалась; разномастные бороды вскидывались все выше. Оратор говорил уже совсем резко, напористо, вдалбливал в казачьи головы новую неслыханную правду. С блестевшими глазами он рубил перед собой ладонью и через людское море тянулся к тем, пестро одетым, кто стоял поодаль, рядом с фронтовиками. Возле табуретки, как на параде, выстраивались затянутые в мундиры бородачи. То и дело мелькали урядницкие лычки, кресты, медали. Оратор изредка опускал к ним настороженный взгляд, метал слова через их фуражки. Атаману в оба уха что-то шептали нахмуренные бородачи, недобро косились на оратора. Тот, как видно, давно уже заметил это — левая рука его ни на минуту не выходила из кармана шинели…
— Советская власть идет заодно с трудовым казачеством. Это всякие благородия распускают слюни, плетут небылицы. Они обманывают вас. Они втравливают вас в войну. Не слушайте белопогонников! У них отобрали фабрики, вечные участки — они хотят вернуть их. Снова собираются сесть на наши шеи. Не будет этого! Не удастся! Мы всех заставим работать. Довольно им жрать чужой хлеб! Станичники-казаки! Труженики! Великая Октябрьская революция…
Офицер Арчаков, протиснувшийся к табуретке, ухватил, блеснув серебряной на рукаве нашивкой, за откинутую ветром полу оратора, рванул;
— Будет… слазь!
![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](https://cdn.my-library.info/books/150478/150478.jpg)