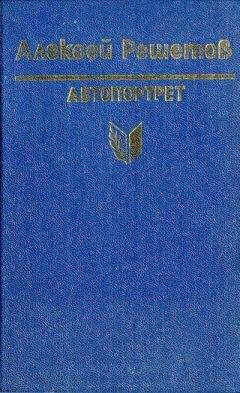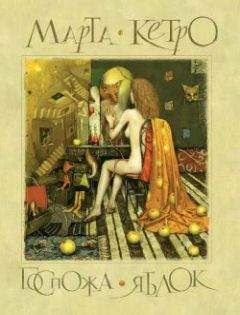Заметив нас у приоткрытых Маришиных дверей, наша бабушка сердито говорила:
— Отойдите, у человека горе.
Мы отходили, а в ушах еще долго стояли протяжные, дрожащие слова:
Такой хороший был д’убитый мой.
Утром встанет, с ружьем сходит,
хлебца испекет…
Вечером Мариша появлялась во дворе и опять тихо улыбалась.
— Извела себя совсем, — вздыхала бабушка. — Каждый день семик.
И кричала ей:
— Мариша, я заварочки достала, идем чай пить!
И Мариша идет.
Мы с Петькой в это время уже укладываемся. А они сидят за столом и пьют без всего пустой, крепкий, почти черный чай.
— Веришь, Александровна, душа прямо горит без чаю-то.
Мариша делает маленький глоток и закрывает глаза.
— Пей, Мариша, пей, — потчует бабушка. — Я еще подолью. Сама без чаю не могу. Идешь с работы, знаешь, что у тебя заварочка где-то спрятана, — ноги сами идут…
— Идут, — как эхо, повторяет Мариша и смотрит на свои ноги в огромных калошах, перехваченных в нескольких местах телефонным проводом. Она отхлебывает чай, бережно прикасаясь к стакану, и говорит без всякой интонации:
— Ноги не мои стали, спасу нет. Доктор сегодня выганивал: «Нельзя вам, мамаша, донором быть». А жить чем?
Мы с Петькой начинаем дремать. Откуда-то, как будто через вату или воду, доносятся голоса. Снова говорят про чай.
— Всем научным работникам чай крепкий дают…
— Как без него войну вынесли бы?
— У Сойкиных в счет работы взяла…
— Уж не зря они по столовской части…
Голоса отодвигаются все дальше. Последнее, что я слышу, это произнесенная Маришей фраза:
— Сытый голодного не разумеет.
Мы засыпаем.
♦
Зима давно уже рассказала свою жуткую снежную сказку, и теперь тоненько и весело поет свою песенку весна. А нам с Петькой все еще страшновато: вдруг стужа воротится? Мы закроем глаза, затем откроем, и бабушка строго нам скажет:
— Хватит дурака валять. Видите — снег пошел. Куда вы теперь, раздетые? Сидите дома. Знаете, как фотограф говорит: «Картошку сварю, покурю, в окошко посмотрю…».
И мы станем смотреть в окно и сначала ничего не увидим от слез. А потом глазам нашим откроется полузаснеженный двор, где слева — угол Маришиного домика и еще не сожженная конура Индуса, справа — двухэтажный с длинным балконом дом Сойкиных, милиционера Петра Семеновича и Чуркиной. Прямо против нашего окна, в тупичке, белеет мусорный ящик и высится едко названная кем-то «второй фронт» куча банок из-под американской свиной тушенки.
Посреди двора, на расшатанных козлах, пилит дрова Коляда. Не себе — Сойкиным. Себе он накрал угля, пока работал на станции. Не на одну зиму хватит, да еще и на продажу остается!
Но Димкина мать углем топить не хочет — копоти много.
— У меня скатерти голландского полотна, стану я их коптить!
Коляде пообещали спирту, и, обычно такой медлительный, он на сей раз спешит. Вечером он выпьет, побагровеет, будет плеваться и почесывать густую черную, как печная заслонка, бороду.
Интересная у него борода! По ней всегда узнаешь, что старик недавно ел: если щи — то кусочек капустного листа в ней зеленеет, если селедку — косточка застряла.
Сейчас борода желта от опилок. Они попадают и в глаза его, он трет веки кулаком и шевелит губами — наверное, матерится.
Еще некоторое время мы глядим на старика. Одновременно мы с нажимом водим пальцами по оконному стеклу, отчего оно точно мяукает. Нам становится весело.
— Давай ты будешь бедный котеночек и я буду бедный котеночек, — предлагаю я.
— Нет, — говорит Петька. — Лучше Иванушку покатаем. Не забыл — как?
Конечно, я помню, как мы катали Иванушку.
Однажды среди вороха старых книжек мы нашли подкрашенную акварелью фотографию. Дал нам ее Витькин отец. Давно, когда о Витьке еще ни слуху ни духу не было.
По зеленым волнам, по солнечным копейкам на ней неслась легкая яхта. На обороте снимка химическим карандашом было написано: «Черное море. 40-й год».
С этим снимком мы забрались в постель и стали передвигать его по одеялу — яхта будто плавала.
Одеяло заменяло ей воду, а согнутые под ним ноги были берегами: мои ноги — левый берег, Петькины — правый.
Наш единственный карандаш мы расщепили зубами на две части. В одеяле есть дырочки, мы вставили в них половинки карандаша и придерживали их пальцами ног.
Получились стволы деревьев. На них мы вешаем сырые наши носки — это кроны. Деревья с общего согласия называются каштанами. Почему — мы и сами не знаем. Каштаны — и все.
И вот яхточка плывет по одеялу; я, надувая щеки, изготовляю ветер странствий, а Петька поет:
Иванушка, сынок,
Плыви на бережок.
То тебя родная матушка зовет.
И яхта подплывает к берегу.
А Петька поет опять, но уже не таким тоненьким голосом, как до этого:
Иванушка, сынок.
Плыви на бережок,
То тебя баба-яга зовет.
И карточка поспешно отодвигается к холодной, давно небеленной стенке, у которой стоит наша кровать…
Вторая игра «в Иванушку» захватывает нас еще больше первой. И мы уже не думаем о том, что мальчишки, у которых есть пальто и шапки и что-нибудь на ноги, без нас будут строить снежные крепости, без нас будут кататься на «дутышах».
Мы играем, бабушка что-то гладит; за окном звенит пила и, как пух из Маришиной подушки, летит снег.
Он закрывает последние следы тапочек, кучу консервных банок, пузырьки, горько пахнущие лекарством, и мотки голубой от окиси проволоки.
Проволоку можно летом собрать и сдать в утильсырье. А потом мчаться в центр и в Госбанке разжать маленький, с двадцативольтовую лампочку, кулачок, чтобы отдать потную трешку старенькому кассиру:
— Нате, дяденька, на подводную лодку «Пионер».
И, не чувствуя под собой земли, переполненному необъяснимым, светлым чувством, бежать домой…
Как по-взрослому называется это чувство?
♦
Зимой дни короче, летом — длиннее. Так говорила бабушка.
Но мы с Петькой не могли этому поверить. Зимние дни тянулись для нас нестерпимо долго.
Никто из ребят у нас не бывал. Только изредка прибегал Димка, чтобы похвалиться отличной отметкой или сказать, что не надо играть с Валькой Степановым. Он, этот Валька, себе-то сделал медаль из пятака, а Димке только из трех копеек.
После Димкиного ухода нам бывало особенно грустно. Петька тоже бы ходил в школу, да не в чем.
Ну и пускай! Читает Петька все равно не хуже Димки. И писать тоже умеет. Только печатными буквами…
Однажды Петька показал мне букву «а», и я на обложке «Руслана и Людмилы» нашел три «а».
Петька обрадовался:
— Теперь я тебе «сэ» покажу, запросто «Сэсэсээр» напишешь.
Но показать «сэ» он не успел. Дверь в нашу комнату без стука распахнулась, и вслед за бабушкой вошло очень много народа. Наверное, весь наш Почтовый переулок.
— Вы тихо сидите, — шепнула нам бабушка, — собрание у нас будет. Чуркина говорит: у тебя площадь позволяет. Боится, что ей натопчут…
Собрание долго не начиналось. Многие сначала сходили за своими стульями. Нашу единственную табуретку бабушка обтерла мокрой тряпкой и пододвинула незнакомому человеку в пенсне.
Когда все собрались, он встал и заговорил:
— На крутых поворотах истории наш народ всегда проявлял беспримерное мужество и высокую сознательность. И теперь, в это трудное время…
— Здорово! — подтолкнул меня Петька. — Как радио, шпарит! Тебе видно?
— Видно. Вон какой у него кулачище!
— А смотри, какая тень скачет, как футбол!
Действительно, по стене от кулака, которым размахивал говоривший, прыгала большая круглая тень.
Мы начали ее ловить и перестали прислушиваться к голосам взрослых.
Но вот эта тень исчезла — незнакомец начал что-то записывать и низко наклонился над столом. Дядя Вадим снял обшитую кожей ушанку (все сидели, не раздеваясь — так было холодно) и сказал:
— Знаете, бойцу она нужней. Я тут рядом живу. Дойду как-нибудь. Да у меня еще с финской войны форменная осталась. — И ушел домой без шапки.
И все выходили и возвращались с чем-нибудь теплым. Домкомша Чуркина помогла незнакомцу унести два больших узла с собранными вещами.
♦
Постепенно все посторонние разошлись. Остался лишь Коляда. Еще в начале собрания он привалился спиной к печке и теперь спал так крепко, что ни разговоры уходящих, ни хлопанье дверей не смогли его разбудить.
— Ишь ты, ничего его не трогает, — сердито усмехнулась бабушка. — Какой-то кусок мяса!