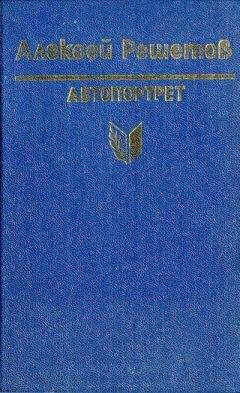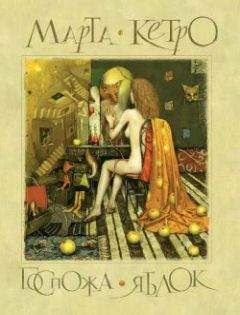— Давай съедим хлеб. Хоть по граммчику…
Мы съели весь мякиш, собрали с одеяла и проглотили крошки. У нас остались корочки, напоминающие собой букву «П». Через несколько секунд «П» превратилось в «Г», а еще через мгновение «Г» стало просто палочкой.
— Теперь у нас папиросы. Будем их курить. Так надольше хватит.
Мы «закурили папиросы», и пар, выдыхаемый в холодной комнате, напоминал папиросный дым.
«Папиросы» быстро стали «окурочками». Их трудно было удерживать губами — так они были малы…
С хлебом покончено.
Мы вылезаем из-под одеяла.
— Баба не велела бегать по комнате, — неохотно напоминаю я.
— Откуда она узнает? — Петька уже подскочил к столу и взял не прибранный бабушкой мелок. Им она делала разметку.
— Сейчас я нарисую, знаешь что? Утопленника. Как он стучится под окном и у ворот.
Мелок невелик. Надвое его не разделишь — поэтому рисует только Петька, а я внимательно слежу за его работой.
У него все хорошо получается. Когда у нас были краски, он часто рисовал войну. Горели на листке бумаги подбитые самолеты и подожженные домишки, струилась из ран кровь. Но как-то в парке Петька увидел снегиря, захотел его изобразить, старательно вывел крылышки и головку. И вдруг горько вздохнул: не было красной краски.
Вся она пошла на кровь и пламя, и снегирь так и остался с белой нераскрашенной грудкой.
Этот рисунок выпросил и унес в школу Димка Сойкин, и учительница поставила ему отлично…
Некоторое время я наблюдаю за рисующим братом. Затем начинаю складывать из оставленных нам спичек колодец. Я закрываю его сверху крышкой из чиркалки, дую на него — нет, не рассыпался! — и, довольный, опускаю указательный палец в стоящий тут же стакан с постным маслом. Облизываю — вкусно!
Это масло все называют «масло с узбеком».
Говорят, что какой-то узбек с чайником полез за маслом на цистерну и упал в нее. Якобы там на дне его и нашли, когда масло выпустили. Многие этому верят и отоваривают карточки американским маргарином, который намного хуже…
— Петька! — обрадованно толкаю я брата. — Это ведь ты узбека масляного рисуешь? Верно?
— Ага, — кивает Петька. — Я тебе только не говорил. На, смотри…
С фанерной дверцы тумбочки точечками-глазами глядит на меня утопленник. Одной ноги у него нет — не поместилась. Зато на туловище у него не меньше десятка пуговиц.
— Петь, нарисуй ему саблю, — прошу я.
— Не-е, — возражает брат, — сабля ведь железная, и она утонула совсем.
— Ну, хоть чайник, с которым он лазал.
Петька великодушно выполняет мою просьбу.
— Готово! — говорит он, делая последние штрихи. — Утопленничек! Хороший?
— Мировой! У, мощно! — восхищаюсь я.
— А это еще мировее, — говорит Петька и толкает мне в рот теплый кусочек хлеба. — Я не весь съел. Я за майку спрятал.
Петька часто так делает: спрячет немного своего хлеба или сахара, а потом дает мне.
Пора зажечь керосинку — в комнате сумерки.
Я начинаю выдвигать слюдяное окошечко и выкручивать фитиль.
Петька ищет спички.
— Вода! — вдруг испуганно кричит он. — Ты пролил воду на спички!
У меня сразу пересохло во рту.
— Это масло, — с трудом говорю я. — Это не я, это оно само как-нибудь вылилось. — И я начинаю реветь на всю комнату.
Петька долго и тщетно старается добыть огонь. Чтобы не заплакать самому, он пытается меня успокоить:
— Ладно, не стони. Не расстраивай меня. («Не расстраивайте меня», — говорит наша бабушка, когда мы часто просим поесть.)
Я еще всхлипываю:
— Да, а чо баба скажет за масло? А как мы будем в темноте?
— Она ничего не скажет. Она скоро придет. Она, наверно, уже идет. Может, в хлебный зашла.
Я вытираю слезы и тут вижу, как что-то белое и отвратительное начинает двигаться к нашей кровати.
— Петька, идет! — Я хватаю в темноте и крепко сжимаю Петькину руку.
— Кто? — Брат на всякий случай прижимается ко мне.
— Утопленник! Гляди…
Меловой рисунок на дверке тумбочки призрачно белеет. Ветер, забравшийся в дом сквозь треснувшее стекло, раскачивает ее, и кажется, что одноногий утопленник действительно передвигается.
— Баба! — кричу я и прячусь под одеяло.
— Баба! — кричит Петька и лезет ко мне.
Он стаскивает с меня одеяло, и я снова вижу пританцовывающего узбека. Я закрываю глаза. В ушах, как назло, звучит все время одно и то же:
И утопленник стучится
Под окном и у ворот.
И утопленник стучится…
Что-то шуршит и скребется за дверью.
— Когтями он, — шепчу я, не открывая глаз.
— Стучит! — орет благим матом Петька. У него стучат зубы. — Настоящий!
Я тоже слышу стук в дверь.
— Да откройте же, ребята! Петя! Леня!.. Ой господи, что-то случилось.
— Баба пришла!
Мы бросаемся к двери и вдвоем откидываем крючок. Бабушки в темноте не видно, но это она, наша баба.
Мы прижимаемся к чему-то холодноватому, пахнущему, как принесенные с мороза простыни.
— Дурешки вы мои! — Добрые бабушкины руки находят нас. — Ну, чего так испугались? Ох, горе… А со мной Индус. Пришел вас проведать. Видите, какой умный песик… Ну, чего вы? И чтоб этим монтерам…
Баба, наша баба…
♦
И вот — весна!
Она словно догадалась, наконец, как нам с Петькой надоело сидеть дома. Радостно, не боясь, что им попадет от заморозков, лепечут ручьи. Солнышко пригревает все сильнее.
Уже не замерзает в кастрюльке оставленный на завтра суп…
Чуркина принесла бабушке подрубить красный сатиновый флаг — скоро Первое мая!
— И как только таким людям разрешают прикасаться к флагу! — ворчит бабушка, когда домкомша уходит.
А солнышко слепит бабушкины глаза, она перестает хмуриться и весело говорит нам:
— Марш на улицу! Хватит взаперти сидеть.
Мы с Петькой беремся за руки и выбегаем на крыльцо. И все цвета, запахи и звуки счастья обрушиваются разом на наши маленькие, как ручные часики, сердца.
Прямо против нашего крылечка на гладко оструганном бревне сидят девочки. Бревно с одного конца заострено — это будет новый электрический столб. Старый подгнил, его спилили вместе с приклеенным к нему объявлением: «Потерялся жеребенок…»
Теперь на его месте лишь оранжевый срез пенька.
Нам немного жалко этот старый столб: он удивительно гудел — приложишь ухо, и неохота отрывать.
Но жалость наша мимолетна. Ее тотчас вытесняет интерес к новому столбу: к его смолинкам и овальным сучкам.
Девочки шьют кисеты. Только одна — Ленка-маленькая — не шьет. У нее «не работает» правая рука.
Зимой Ленка несла от Чуркиной баночку молока и на крыльце поскользнулась. Баночка разбилась, осколком перерезало сухожилия на запястье. Дядя Вадим, оказавшийся поблизости, подхватил девочку и отнес в военный госпиталь — он совсем недалеко от нашего двора.
А на крыльце долго лежали осколки, красные, как яблоки на наклейке от баночки. Мы с Петькой бегали смотреть, а бабушка говорила, что у Чуркиной молоко злое.
Руку в госпитале, как рассказывала потом сама Ленка, «зашивали, зашивали, уж так прямо зашивали, а кровь все течет». Ленка вспоминала об этом и становилась бледной, как тогда на крыльце у разбитой баночки.
Постепенно она научилась все делать «левшой»: мести пол, колоть лучинки… Но положить ровно стежок на материале она еще не может. Морщится и возвращает иголку хозяйке.
— Нет, не выходит!
На минутку мы с Петькой уходим домой — может, бабушка что-нибудь сварила? А когда возвращаемся, девочки громко о чем-то спорят:
— Лучше ты попроси… тебя он знает.
— Нет, лучше ты. В госпиталь он тебя носил? Тебя!
Больше всех суетится длинная Лилька. В руках у нее по белому лоскутку. Она взмахивает ими, как птица крыльями, и все приговаривает:
— Ой, девочки, неудобно, ой, девочки, неудобно…
Но вот во двор выходит дядя Вадим, все к нему бросаются и в один голос затягивают:
— Дя-а-дя Вадим, дядя Вадим… Нарисуйте!
— Мне уточку!
— Мне лодочку!
— Васильки! Васильки!
— Кремль, Кремль, Кремль! Москву-у!
— Нарисуйте, дядя Вадимчик, миленький. А мы вышьем и раненым в госпиталь отнесем.
Дядя Вадим хмуро взглянул на часы, задумался, махнул рукой:
— Так и быть, красные девицы. Сослужу вам службу верную. Будет и Кремль вам и, — подражая длинной Лильке, неожиданно тоненько выкрикнул: — и васильки, васильки!
Девочки засмеялись, захлопали в ладоши.
— Леня, — подозвал меня художник, — сбегай ко мне. Возьми карандаш и фанерку какую-нибудь или книжку, чтоб подложить. Одна нога здесь, другая — там!