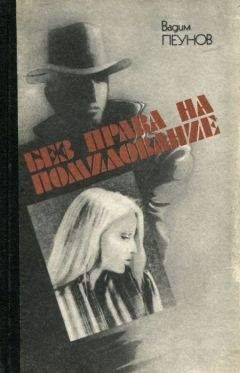Симпатяшка-биолог, увлекающаяся журналистикой...
У Сани довольно несовременный взгляд на женский вопрос. Марина, обеспокоенная этим (ну как же так: парню минает двадцать седьмой год, а зазнобу не завел. Да что он, не живой!), говорила не раз: «Неужели ни одна не коснулась твоего сердца?»
— «Коснулась!» — отвечал он и вел к рабочему столу, где у него лежала рукопись диссертации. «Настоящей науке нужны одержимые, — пояснял он. — Не кандидаты, не доктора и даже не академики, а одержимые, свихнувшиеся на какой-то идее, например, на том, что Байкал в будущем — новый океан, а пока уникальная кладовая пресных вод».
«Симпатяшка из газеты... Детектив на тему: «Освоение богатств Сибири и ликвидация (во имя гуманизма) глубоких шахт старичка Донбасса, разрабатывающих маломощные пласты...»
За всем этим что-то стояло, что-то беспокоило Саню. И это «нечто» он, вопреки обыкновению, сейчас пытался скрыть от отца. До сих пор у них не было каких-либо тайн друг от друга. Даже служебных, хотя на «специальные» темы они и не распространялись. Уже по иной причине: Иван Иванович был далек от проблем современной геологии, а Саня не увлекался «детективом», написанным жизнью. «Иное дело — Агата Кристи! Читаешь и решаешь ребусы. Словом — положительный стресс, столь нужный затурканному научно-технической революцией и космическими скоростями человеку».
— Ну, если тебе надо знать цены на современные автоматы только как деталь для шуточного детективного рассказа, напиши: сто тысяч, — посоветовал Иван Иванович, убежденный, что Саню такой ответ не устроит, он задаст еще какие-то «наводящие» вопросы и, возможно, назовет истинную причину своей взволнованности.
— Но даже пародия на детектив должна исходить из какой-то реальности! — возразил запальчиво Саня. — Вот у Чехова «Шведская спичка». Там все герои — живые люди с индивидуальными характерами, реальные события. Ловкая бабешка упрятала от глаз людских своего любовника, а желающий выслужиться чиновник решил, что тут имеет место криминальная история: как же, человек пропал! Чиновник из дотошных и строит свою ложную версию, основываясь на реальных «вещдоках». Он идет по верному пути и таки находит и «труп», и «убийцу»... В дураках же остался лишь потому, что не учел характера среды... Словом... подбросил бы, майор милиции, какой-нибудь сюжетец начинающему литератору... Похлеще.
У Ивана Ивановича чуть было не слетело с губ: «Трагедия семьи Генераловых — куда уж хлеще...» Но вовремя сдержался.
— Чужая трагедия — не предмет для насмешек или вышучивания, — ответил он.
— Черт с ней, с этой многотиражкой, — вдруг решил Саня. — Обойдутся без моего детектива.
Он качнулся на кресле-качалке так, что кресло его «катапультировало». Подошел к Ивану Ивановичу, стал рядом.
Город расцвел огнями. Лежащие внизу улицы потеряли привычные очертания, стали сказочными. Казалось, их построили ловкие умельцы из киностудии, чтобы снять сцену о Гулливере... Вот протопает сейчас человек-гора по этим бутафорским улочкам, выбирая место, куда поставить ногу, ногу, обутую в огромный ботинок.
— Порою в голову лезут такие ералашные мысли! — заговорил тихо Саня. — Я мог бы и не родиться. Доля вероятности, что родится именно такой-то человек в определенную геологическую эпоху, в этом городе и у этих родителей, — астрономически мала... А мы все-таки рождаемся... И умираем. А возможность человека умереть — диаметрально противоположна возможности родиться. Смерть индивидуума — это неизбежность... А как же расставаться вот с этим?! — Саня обвел рукой вокруг себя.
В твои-то годы — о смерти, Саня! — воскликнул Иван Иванович, который уже места себе не находил, ему передалась внутренняя тревога сына.
— Да я не о костлявой... Я о другом: вот если бы не родился, то у меня не было бы... тебя, Иришки, Марины, чудака академика, этого вечернего города, не было бы даже этой нашей дурацкой беседы о сюжете для детективного рассказа... Ничего... А как это ни-че-го? Как? Не понимаю. Нейтрино, пронизывающее Землю, как иголка мешковину, — нечто! Умер человек — о нем остается память. Стерлась память — остаются кости. И через два миллиона лет Некто найдет случайно мою челюсть и будет воссоздавать по ней мой облик: попытается угадать, на каком этаже я жил, был дом с лоджиями или с балконами. Пусть все пойдет в тартарары, Землю поглотит «черная дыра», пожирающая материю. Но и тогда произойдет всего лишь очередная трансформация космоса... А вот если человек не родился... Как же так: человек — и вдруг не родился?! Может, это и есть абсолютный нуль? Мне думается, лучше умереть в самых жестоких муках, чем... не родиться. Не могу налюбоваться жизнью. Но какая она короткая у человека! Ну, пусть, в среднем, семьдесят лет. Из них двадцать пять поднимаешься на ноги, десять — толкуешь на бульваре, сидя на лавочке с пенсионерами, о том, почему «Шахтер» продул в Киеве динамовцам. А что остается для творчества, для любви, для настоящей жизни? Вот и приходится выбирать между тем или другим, иначе ничего не сделаешь путного, всюду опоздаешь...
Таким грустным философом Иван Иванович, пожалуй, сына еще не знал. Дети, дети... Как заблуждаются родители, думающие, что они вас знают и понимают!
— Пойду, кислородом подышу, — решил Саня.
— Надолго?
— До утра... Марина пилит: «Другие женихаются, а ты как не от мира сего...» Словом, решил загулять.
И только сейчас Иван Иванович уловил легкий запах спиртного. «Санька — выпил!» Впрочем, парню — двадцать семь, в октябре защищает кандидатскую. Исколесил всю Сибирь. Почему бы ему, можно сказать, бывалому геологу, не выпить в такую жару кружку пива или бутылочку шампанского с друзьями... Если бы только не этот разговор — почем на базаре автомат Калашникова, и не «космическая» тоска по неродившемуся человеку... Чем навеяны эти вопросы, эти мысли? Что-то же их породило? Сегодня! Ни вчера... Ни позавчера... Ни завтра! А именно — сегодня!..
Впрочем, тут он не прав. Саня звонил ему на работу, искал еще позавчера.
Хлопнула дверь. Прошла минута. Иван Иванович уже поглядывал вниз, на подъезд, где в освещенном круге должна была мелькнуть ловкая фигура Сани. Но того все не было. И вот — звонок в дверь. «Вернулся. Что-то забыл? Или передумал».
Иван Иванович собрался было выйти в коридор, поинтересоваться, но Саня уже переступил порог лоджии. Возбужденный, черные глаза полыхают черным огнем.
— Пап! Мне нужно с тобой поговорить. Мужское дело. — И огорошил: — Григорий Ходан жив. Я его видел.
Орачи с Ходанами были соседями, Иван с Гришкой, как говорят на Украине, — товаришували: за десять километров ходили в школу из Карпова Хутора в Благодатное. Гришка был мозговитый парень, в отца — известного на всю округу умельца Филиппа Авдеевича. Руки золотые. В шестом классе за эти руки Гришку премировали путевкой в Артек: Матрена Игнатьевна, завуч школы, расстаралась для любимого ученика.
Накануне войны Гришку Ходана призвали в армию. А через год, в декабре, он уже появился в Карповом Хуторе и темно-синей форме полицая.
— Конец Советской власти! — говорил Гришка.
Если человек сволочной по натуре, то рано или поздно это все равно выплывет, как мазут из-под снега. Так и с Гришкой...
Где-то через год он привел к отцу в дом свою жену Феню. Иван увидел ее дня через два после приезда. Она сидела на крыльце и чистила картошку. Шестнадцатилетний парнишка так и прилип к забору: таких красивых он только на картинках видел. Носик тонкий, остренький, глазищи черные-черные. Брови крутые — ласточкиным крылом. Гречанка — не гречанка... Уж очень белолицая. Волосы густые, каштановые, в крупных локонах.
Так пришла к хуторскому парнишке, истосковавшемуся за годы черной оккупации по светлому, честному, доброму, первая любовь.
Феня ждала ребенка, а Гришка постоянно допекал ее злыми выдумками. Иван не раз видел: схватит тоненькую, маленькую ручонку Фени и давай сжимать в своих тисках, выкручивать — ждет, когда в уголках карих глаз созреет слеза. А увидит, что Феня вот-вот заплачет, с горечью скажет:
— Идиот! На цыганский манок купился: надутую пьяную кобылу за резвого скакуна принял. В кого поверил! В Гитлера, в этот собачий потрох! Ему башку открутят — это теперь и слепой видит. А заодно и таким, как я! И поделом! Но как подумаю, что после моей смерти кто-то другой целует-голубит мою Фенюшку... Удушу-ка лучше я тебя! Да и повешусь после этого... Без тебя мне жизнь не в жизнь!
Не удушил и не повесился. Как змея, которая жрет свой вылупок, своих детенышей, — отлучил от матери трехмесячного сына. И если бы не дед Филипп Авдеевич, что было бы с Санькой? Матрену Игнатьевну, которая жила в его доме на правах матери (старая коммунистка от фашистов укрывалась), собственноручно расстрелял возле школы. Ее и еще двадцать семь человек. А потом хотел и соседей: Ивана с его младшим братом Лехой... Из пулемета. Леха убежать не смог. Ивана спасла случайность: Феня, которая была на подводе, настегала лошадей, те помчались вскачь и... пулеметчик не сумел прицелиться.