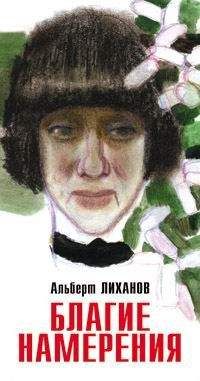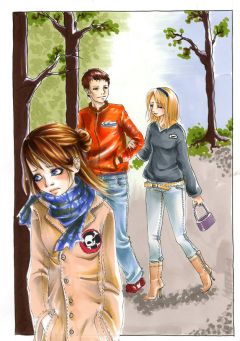Не знаю, как Аллочку, меня этот образ преследует – двое красивых, благополучных людей – руки в стороны, ноги врозь, ать-два! Бэкон-то мой прав! Я раньше только вторую половину фразы слышала, а теперь поняла и первую: «Процветание раскрывает наши пороки». Вот он, оказывается, о чем.
Я, конечно, могла хулить Запорожцев сколько мне вздумается – толку-то? Они где-то там заряжаются физкультурой, берегут большое здоровьишко, катаются в «Москвиче», а Алла здесь, со мной, и чем там мостили дорогу в ад, мне все равно.
Меня моя дорога интересовать должна. Мои намерения.
Они, конечно, благие, сама знаю. Только вот благость их тяжела.
Анечка Невзорова, к примеру, своим неразумным умишком ее отвергла, эту благость. Малышня, а выбор сделала очень даже трезвый и взрослый. Мечты об исправившейся мамаше, конечно, наивны, но лучше уж сердце свое между матерью и другой женщиной, к которой привязаться нетрудно, не разрывать, это так.
Анечке легче всех, она сама решила, потому и легче.
А вот Сева мой… И Степан Иванович ничем не виноват, и мальчишка. Может, не уехал бы его охотник, ничего с Севой и не случилось. Конечно, ничего. А случилось потому, что уехал. А в том, что уехал, никто не виноват.
И мне можно ручки умыть?
Эхма, благодетельница-воспитательница! Не вспоминай, не надо. Не трави душу ни себе, ни людям, не вали на них хотя бы и частицу, а своей ноши.
Благими намерениями… За несостоявшиеся намерения других людей единственная в ответе ты сама. Ведь ты их подтолкнула. И нет никаких обстоятельств, смягчающих твою вину…
Лихорадка мгновенных сборов: позвонили из милиции, как будто нашли удальца. Мы едем с Аполлошей в такси, и я испытываю полную атрофию чувств. Даже это известие не радует меня. Половинные эмоции, я довольна, что обошлось, не больше. Может, научилась тому, о чем говорила Елена Евгеньевна? Зато директор ликует. Без конца тарахтит, просто никакой выдержки. Хотя понять можно. Все-таки директор. В конечном счете он отвечает за все.
Мне становится совестно, на минуточку чувства возвращаются в полном объеме. Ведь Аполлон Аполлинарьевич, поддерживая мою идею, брал всю ответственность на себя. Такая простая и доступная мысль посещает меня впервые, и мне совестно за собственный беспардонный индивидуализм.
Господи! Да ведь все, кто меня окружает, поддержали меня, согласились со мной. Именно потому я не могу ни на кого сваливать. Даже на тех, кто попробовал и не смог, Запорожцев этих.
Наш выезд оказался пустым. Парень, которого задержали, был старше на год и к тому же при нас стал сознаваться, кто он и откуда.
Любопытно – отец и мать кандидаты наук, он – из института, она – медик. Впрочем, какая чушь! У сердца нет ученых степеней…
Кончался пятый день, как сбежал Сева. Мы вернулись в школу, и Аполлон Аполлинарьевич с женой поили меня чаем в директорском кабинете.
Разговор не вязался главным образом из-за меня. Я отвечала кратко, неохотно.
Елена Евгеньевна достала из сумки колбасу, свежий батон, нарезала бутерброды. Теперь я понимаю – эти люди были куда мужественней меня. Дома по-прежнему не ладилось, и хотя сын ночевал, ключи к нему все еще не были найдены, а директор и завуч старались развеселить воспитательницу, которая к тому же сама кругом виновата.
Они напоили меня чаем, колбасу Елена Евгеньевна спрятала между рам, остатки батона завернула в вощеную бумагу.
– Может, вам плохо спится, так придите сюда, попейте чаю, чайник всегда тут.
Аполлон Аполлинарьевич молча катнул по столу ключ в мою сторону, и я почему-то явственно вспомнила наши первые разговоры, тот педсовет, где он пересказал Лескова, генерал-майора, не выходившего за стены кадетского корпуса, эконома Боброва, который дарил молодым офицерам серебряные ложки.
Нет, определенно наш директор владел даром читать мысли.
– Неплохо бы нам, – задумчиво сказал он вдруг, – поговорить на педсовете о Рылееве.
Он хитровато разглядывал меня. Опять старался повысить мой тонус своими разговорами?
– Помните, кто первым высказал мысль: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»?
– Некрасов, – слабо улыбнулась я.
– Некрасов перефразировал, развил. А первым сказал Рылеев: «Я не поэт, а гражданин!»
– Полно, Аполлон Аполлинарьевич, – сказала я, – вы не естественник, а словесник.
Он не ответил на это.
– И знаете, предпочел поэзии восстание и смерть. – Аполлоша помолчал. – Жизни предпочел долг.
– При чем тут педсовет? – спросила Елена Евгеньевна.
– Жизни – долг, – удивился директор, что его не поняли. – Разве это не наша тема? Учителей? Или мы, товарищ завуч, должны говорить лишь о планах, уроках, учениках?
– Собирайся домой, товарищ директор, – печально улыбнулась Елена Евгеньевна, – воспитывать собственного сына.
Они ушли, а я осталась в кабинете. Посидеть в мягком старом кресле, провалившись просто по уши. Можно положить голову на спинку, подумать про себя, про свой поезд, про жизнь, пока малыши спят.
Жизни предпочел долг, сказал Аполлоша про Рылеева. Жизни – долг. Это Рылеев. Там требовался выбор. И он выбрал. А я? Сейчас совсем все другое. Не требуется никакого выбора.
Никакого или – или.
И – и.
И жизнь и долг. Но какая жизнь, если такой тяжкий долг?
Я задремала, а проснулась, точно дернулась. Снова прикрыла глаза. Осознанно открыла их.
Передо мной стоял Сева Агапов. В нашем интернатском сером пальто, замызганном чем-то черным, похудевший, с воспаленными глазами.
Он смотрел на меня, медленно опускал глаза, потом быстро вскидывал их, снова смотрел какое-то время и вновь медленно опускал взгляд.
Я не кинулась ему навстречу, не стала раздевать, как сделала бы раньше, я не заплакала, как плакала прежде от подобных потрясений, а встала, приоткрыла окно, достала колбасу, нарезала ее, сделала бутерброды, налила остывающий чай, поставила перед директорским креслом, улыбнулась Севе:
– Ну! Мой руки!
Он снял пальто, шапку, сложил их на стол, вышел в коридор, а я даже и не подумала, вернется ли он. Мысли такой не было.
Я смотрела на чашку, бутерброды с колбасой, на директорское кресло, куда сейчас сядет Сева – и это будет довольно забавно, – я смотрела перед собой на простые предметы, виденные тысячу раз, и думала о Боброве и о фразе, сказанной Аполлошей на первом педсовете. Он сказал тогда: «Видите, какие славные учителя были до нас с вами!»
Хорошо сказал. Я еще аплодировала, экзальтированная дурочка!
Я смотрела на чай для Севы, а думала про эконома Боброва, старуху Мартынову, как она говорила про учителя – раствориться в них надо! – про Аполлошу с его женой и предками.
И про себя.
Может же человек подумать про себя?
Особенно если так: жить надо благими намерениями и делами.
Вот, собственно, и все. Верней, все о начале.
Меньше всего мне хочется выглядеть победительницей, хотя Аполлоша нет-нет да и назовет меня так по старой памяти. Сева, правда, больше не сбегал, видно, с первого класса понял, что у школы надежная крыша. Сушеный крокодильчик приехал к нему из Африки, и каждое воскресенье Сева гостит у Степана Ивановича и его жены, которая теперь к мальчику очень привыкла. Осенью, в сентябре, Сева ходит со Степаном Ивановичем на утиную охоту, приносит в интернат селезней, и уже не Яковлевна, а другая повариха, такая же добрая и участливая, готовит жареную дичь нашему «Б».
Первый класс мы закончили вот с каким результатом: Зину Пермякову, Сашу Суворова, Колю Урванцева и еще троих детей усыновили и удочерили хорошие люди. Шестеро – обстоятельства сложились так – в гости ходить перестали. Десять же мальчиков и девочек, как мы и предполагали, нашли хороших друзей. Миша и Зоя Тузиковы, например, обожают Петровичей Поварешкиных, дружат с их сыновьями и каждую субботу торопятся из интерната.
Можно считать, благополучный исход. Счет шесть – шестнадцать.
Но все дело в том, что педагогика не точная дисциплина. Можно выиграть со счетом один – девятнадцать. И проиграть девятнадцать – один. Единица перетянет девятнадцать, и сто, и тысячу. Вот почему судьба шестерых, вернувшихся в интернат навсегда, мучила меня долгие-долгие годы.
Тогда в директорском кабинете, глядя на жующего голодного Севу, я вновь дала себе слово не бросать моих малышей. Аполлоша произнес под Новый год тост за десятый «Б», и я поклялась быть учителем этого класса. Благие намерения предстояло поддерживать благими делами. Я думаю, и дорога-то в ад вымощена не намерениями, а намерениями неисполненными. Вот в чем дело.
Да, у меня получилось так. Шестеро моих детей так или иначе, прикоснувшись к семейному очагу, лишились его тепла. Но к этому огню они прикоснулись с моей помощью. И я не вправе была покидать их, когда они снова остались одни. Иначе это стало бы обыкновенным предательством. Я должна была пожертвовать своим покоем, своими удобствами, всем, всем, всем своим, чтобы исправить ошибку. Максимализм? Что ж, уверена – воспитать человека можно, только отдав ему часть себя. Ну а если речь о сироте?..