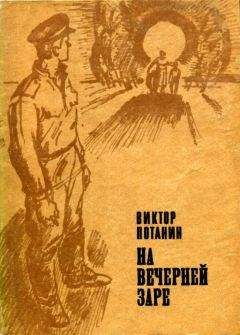Нервничала и Люся Кондратьева. Ей даже не хотелось смотреть в сторону Клары Дмитриевны, но глаза все время натыкались на ее огромный зеленый бант. В другое время она бы улыбнулась этой смешной старомодности, но теперь было не до улыбок. Да и расстроила завуч Надежда Сергеевна. Она подошла к Люсе совсем незаметно и мягко дотронулась до плеча.
— Людмила Александровна, я к вам на урок. Даже и не возражайте — у меня все точно по плану. — Очки у нее блестели строго и выжидающе, а рука вертела желтый блокнотик.
— У меня сегодня внеклассное. Обзор современной поэзии. Вам будет скучно, неинтересно, — попробовала защитить себя Люся Кондратьева, но сразу вспыхнула, как преступница, и опустила глаза. Она никогда не умела лукавить, лавировать, и это было видно, как в зеркале...
— Вот и хорошо, что обзор. Поглядим, что сочиняют наши-то современные...
К их разговору прислушалась Клара Дмитриевна. Люся волновалась, оглядывалась, а глаза Клары Дмитриевны наливались веселым охотничьим блеском, еще секунду — и она бы расхохоталась без удержу, но все-таки сдержала себя. «Достукалась, Людочка. Сейчас Надя просветит тебя про Рубцова. В другой раз не поманит скандалить из-за стишков...» — опять подумала с ухмылкой и, чуть покачиваясь, играя всем туловищем, прошлась по учительской. Остановилась у зеркала и сделала вид, что поправляет прическу, а сама косилась на Люсю Кондратьеву. Прозвенел звонок на урок.
— Ну-с, ведите меня, дорогая. Вы — вперед, а я за вами, — сказала завуч и повертела блокнотом. На лице у нее была строгость, как у хирурга.
Они быстро пошли в коридор, точно их подгоняли.
— Арестовали нашу Людку! — засмеялась Анна Васильевна. — И чего дрожит, напугалась. Я бы эту Надю ни за что не пустила. Вот ко мне на химию натряхивается, а я — нет и нет, не позволяю. У меня будут лабораторные, у меня — реактивы...
— Вы у нас — волк, а Люся — ягненок, — оборвала ее Клара Дмитриевна и очень грустно посмотрела в окно. Настроение у нее падало, может, виновата еще и погода. За окном скрылось солнце и накрапывал дождь. В учительской стало так темно, что зажгли электричество.
Люся и в классе нервничала и потеряла себя. Но только заговорила — начала успокаиваться. И помог ей Ярослав Смеляков. Она читала наизусть его строки, и эта дивная музыка отвлекала от больного, печального, она даже совершенно забыла про завуча, и слова у нее лились и лились. И уже в самом конце урока, за какие-нибудь десять минут до звонка, она, волнуясь, бледнея, стала читать стихи о белой лошади в поле темном, о простой деревенской родине, о старике, у которого глаза светлы, как луч. В классе сделалось тихо, удивительно тихо, даже слышно дыхание учительницы. Люся еще сильней взволновалась, но это уже было другое волнение, и глаза блестели от радости...
— Людмила Александровна, дайте почитать на два вечера? Я бы кое-что списала из сборника... — попросила ее Таня Суханова.
— С удовольствием, Танечка. Можешь читать Рубцова хоть всю неделю, а потом передашь другим, — Люся улыбнулась и подняла голову. И только сейчас заметила завуча. Надежда Сергеевна смотрела в блокнот и что-то писала. Очки свисали низко, сердито, и она смотрела поверх стекол. У Люси сразу побледнело и осунулось лицо, и стало очень холодно спине.
— А почему он такой грустный, Рубцов? Прямо до слез. И как про меня... — не унималась Таня Суханова.
— Дура, Танька! Потому что стихи — это тебе не прилавок. Это ты в своем магазине гогочешь да печенье жуешь! — оборвал Суханову парень с румяным, как апельсин, лицом.
— А ты, Собченко, самый умный. Даже портфель таскаешь, в голове-то ум не помещается.
— Цыц, морковка! — зашумел снова парень, и лицо у него стало багровым: надави — брызнет кровь.
— А ты помалкивай, Собченко! Обойдемся без третьего! — Таня вся напружинилась, глаза готовы смять обидчика.
— Чего смотришь, красавица? Сама деревянная, а глаза оловянные, — парень захохотал, его поддержали с задних рядов — и растерялась учительница. И еще сильней побледнела.
— Как же так? Как же? Только что читали прекрасное и были настроены все возвышенно, а прошла минута — и уже оскорбляем...
— Стихи-то стихами, а в жизни все по-другому, — раздался голос с последней парты. Голос вялый, расслабленный.
— Нет, Пронин, ты заблуждаешься. Стихи — всегда радость, мучение. Они воспитывают душу, а значит, и нас. Ну разве тебе не нравится это:
Светлеет грусть, когда цветут цветы,
когда брожу я многоцветным лугом
один или с хорошим давним другом,
который сам не терпит суеты.
И опять тихо в классе. По карнизу стекает дождик и стукает об асфальт.
— Еще что-нибудь почитайте, — попросила Таня, но в это время раздался звонок. Завуч вышла из класса первая и в коридоре подождала Люсю Кондратьеву.
— Людмила Александровна, я хочу предварительно...
— Говорите, говорите, я слушаю...
— Полагаю — цели урок достиг. Заинтересовал их Рубцов. Но дисциплина у вас, дорогая моя... И что это за обращение — морковка?
Люся смутилась и опустила глаза. Разговор продолжился и в учительской. Завуч уже спокойным, подобревшим взглядом поискала Люсю Кондратьеву.
— А говорить вы умеете. И наизусть много — тоже неплохо. Я, к стыду своему, про Рубцова не слышала. А вы читать стали — у меня глаза защипало. Со мной это редко бывает...
— Очки бы сняли, — усмехнулась Клара Дмитриевна. Она прислушивалась к разговору и, не удержавшись, включилась. — Кому это нужно — Рубцов да Рубцов? Он даже в программе-то не стоит, а вы копья ломаете...
— Он по таланту не менее Тютчева. Да, да — это так! — заволновалась Люся Кондратьева, и лицо ее побледнело.
— Более Тютчева, более! И Пушкин рядом с этим — букашка! — залилась смехом Клара Дмитриевна, и на нее стали оглядываться. Большой бант ее колыхался на платье, а нос совсем покраснел склеротически и стал похож на морковку. Люся теперь ее ненавидела. Но все-таки хватало еще на несколько слов:
— А вы знаете, что сказал Достоевский в «Преступлении и наказании»?
— Что он там сказал про Рубцова?
— А то, что люди часто оплевывают своих современников, а потом ставят им памятники и поклоняются. И вообще, коллега, с вашим цинизмом нужно преподавать анатомию.
— Затихни, родная, — не на трибуне! Не успеют опериться, а уже в Цицероны. — У Клары Дмитриевны снова задергался подбородок. Она сжала его ладонями. А Люся сразу заплакала.
— Не нужно, товарищи! Погорячились и хватит. Из-за чего бы большого, проблемного, а то не поделили стишки, — сказала громко Надежда Сергеевна, и Люся еще громче заплакала и вдруг подняла голову, крикнула:
— Я не хотела!.. Не хотела обидеть Клару Дмитриевну! — Она запнулась и продолжала размеренней:
— Просто не понимаю я, как человек с таким сердцем выбрал когда-то филфак...
— С каким сердцем? Доканчивайте, — пошла в атаку Клара Дмитриевна. Дыхание у нее западало, а подбородок кривился и дергался. Она даже не пыталась прикрыть его, и лицо сразу постарело на десять лет.
— Ну, что вы в самом деле? — не утерпела Анна Васильевна. — Все поэты хороши, выбирай на вкус! — Она хохотнула и взглядом поискала сочувствующих. Но ее никто не поддержал, и тогда она уткнулась в тетрадки. В учительской сделалось тихо, точно все притаились. Люся встала у окна и начала разглядывать улицу. Дождь лил теперь сплошной непроглядной стеной, и тяжелая туча садилась прямо на крыши.
— Не надо ссориться. Надо мириться, — сказала завуч и строго, назидательно кашлянула. Люся чертила ногтем по стеклу какой-то рисунок. И вдруг посмотрела на Клару Дмитриевну и усмехнулась:
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору...
— Да хватит тебе эрудицией-то блистать и самодельных поэтов цитировать!
— А вы не тыкайте, Клара Дмитриевна! Я вам не девочка с улицы, — сказала Люся звенящим обиженным голосом и подняла гордо голову.
— Напринимали этих зеленых, — заворчала громко Клара Дмитриевна, и разговор стал принимать тот оскорбительный и коварный оттенок, который часто рождается в женских компаниях. Люся поняла это и быстро нырнула за ширму. Здесь она мигом накинула плащик и, не попрощавшись, выбежала за дверь.
— Теперь ее не догонишь с собаками, — попробовала пошутить Клара Дмитриевна, но ее неожиданно осадила завуч.
— К чему же так?! Вы меня удивляете. Вы ее постарше, поопытней, надо бы помогать ей и ставить на ноги...
— Она сама кого угодно поставит.
— Да брось ты, Клара! То ли не знаем мы! Наша Людка и комара не убьет, а ты злая стала, — заметила тихо Анна Васильевна и тут же спохватилась, затараторила: — Ты прости меня, извини. Я в ваши дела не лезу, мне своих-то по саму маковку. Только надо бы подобрей...
— Ну знаешь, Анна... — Клара Дмитриевна не договорила, лицо у нее дернулось, и она разрыдалась. И так же внезапно стихла. Потом подошла очень медленно к зеркалу, достала из сумочки пудреницу и помаду и стала что-то делать с лицом. Когда она повернулась, все увидели прежнюю Клару Дмитриевну: глаза ее лучились силой и превосходством. Она любовно трогала свои волосы и как-то кокетливо морщила лоб. Все обрадовались этой происшедшей в ней перемене и стали наперебой хвалить ее платье.