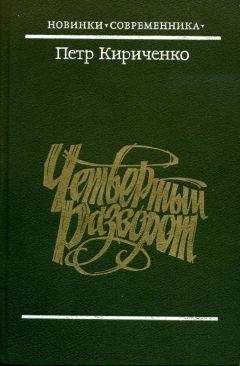— Ты пьяный! Иди отсюдова!..
С этими словами дежурная прикладывалась кулаком к груди мужчины, сталкивая его с трапа, вокруг которого стояло еще несколько человек, желавших улететь.
Что-то подобное Сермяков видел не раз, и поэтому сцена эта интересовала его мало. Он повернулся к Игорехе и продолжил разговор, который они вели еще до посадки.
— Вот ты ходил, думал, — сказал Сермяков, — а теперь рассказал нам. Это хорошо, но понимаешь, справедливость — штука мудрая. — Он помедлил и с усмешкой закончил: — Всем хорошо никогда не будет.
— Будет, — сразу же ответил Игореха, угадав мысль командира. — Вот как только люди поймут, что надо вместе...
— Люди никогда не поймут! — перебил его Сермяков.
— ...что только вместе, — закончил Игореха и добавил: — Другого выхода нет, я думал... Нет! понимаете?..
Игореха сказал это с таким убеждением, что Сермяков в удивлении вскинул брови: теоретически он понимал, мог даже согласиться и помечтать, но он-то был практик и видел жизнь по-другому.
— Да, — значительно сказал он после раздумья. — Это, конечно, было бы хорошо... там равенство, братство. Но кто же это осилит?..
— Как кто? — удивился Игореха. — Люди.
Сермяков этого только и ждал. Лицо его прояснилось, словно бы он вспомнил что-то приятное до невозможности.
— Люди не осилят, — сказал он веско. — Слабы!
И, полагая, что его слова неотразимы, повернулся к форточке. Там продолжалось то же самое: дежурная не пускала пассажира.
— Мне очень надо, — просил мужчина, протягивая билет и не обращая внимания на толчки. — Я с этого рейса, поймите...
Он упрашивал дежурную, сбивчиво рассказывал, что сезон закончился и ему надо немедленно улететь, а то он останется...
— И останешься! — заверила его дежурная. — Пить меньше надо! Отгоняем трап! — Дежурная выкрикнула еще что-то и столкнула пассажира. — Слазь!
Трап плавно тронулся, и тогда пассажир, понимая, верно, что если не вылетит сейчас, то и вообще не вылетит, а возможно, от чувства несправедливости, взвыл и метнулся к двери. Дежурная, не ожидавшая такой прыти, успела схватить его за рукав.
— Ах ты, тварь такая!..
— Не пил я! — с трудом выговорил пассажир, пытаясь вырваться из рук дежурной. — Билет у меня!.. Не имеете права!..
— Права захотел... Милиция!..
— Заблажила скверная баба, — сказал Сермяков, наблюдавший все это, и резко, как из катапульты, выбросил себя из кресла. Игореха, ничего не понимая, кинулся за ним. Он кинулся только потому, что прыжок Сермякова был какой-то звериный, и увидел, как Сермяков уже сграбастал пассажира, вырвавшегося от дежурной и взбежавшего по трапу.
— Сермяков! — закричал Игореха, понимая, что через мгновение пассажир будет скинут на землю.
Никогда раньше Игореха не называл командира по фамилии, и Сермяков, удивившись, оглянулся. Он бы не был самим собой, если бы за секунду не разложил всю ситуацию по частям: дежурная — наглая особа, пассажир, возможно, и выпил, но ему надо улететь, сам он, Сермяков...
Мужчина, беспомощно висевший на своем сером пиджаке, как на парашюте, был опущен на трап.
— Посадить! — рявкнул Сермяков и по-бычьи закрутил головой.
— Чего? — дежурная подумала, что ослышалась. — Я докладную на вас подам!
Она взбежала по трапу и, ухватив пассажира за рукав, стала тянуть того вниз. Сермяков тянул вверх.
— Докладную?.. Ух! — выдохнул он и вырвал пассажира из рук дежурной. — В самолет!
Мужчина ходко взбежал по ступенькам и сиганул в проем двери. Игореха и Сермяков вскочили за ним, а бортмеханик тут же захлопнул дверь.
— Все напишу!.. Летать не будете! — слышалось с земли в открытую форточку, и Сермяков, буркнув короткое, но выразительное слово, захлопнул ее.
— Цербер, — спокойно проговорил механик, который высказывался редко, но знал, как сказать. — Чтоб тебя день и ночь трясло от таких писаний.
Летели молча.
Игореха, набрав высоту, включил автопилот, но рук со штурвала не убрал, сидел неподвижно, бесцельно глядел по курсу. Штурвал нервно подергивало, отчего руки Игорехи попеременно то поднимало, то опускало. Штурман сказал новый курс, и Игореха плавно развернул самолет. Казалось, все шло, как обычно, и только Игореха, ни разу не взглянувший на Сермякова, словно оцепенел. Мысли в его голове смешались, он почувствовал непомерную тяжесть. Перед глазами стоял худенький, низкорослый пассажир, большеротый и чем-то похожий на ребенка, и плакал. Игореха помнил, что там, у трапа, такого не было: мужчина, оказавшись между Сермяковым и дежурной, затравленно оглядывался, но не плакал. «Что же это?! — мрачно думал Игореха. — Разве так должно быть между людьми... Зачем бы и летать, если жить, будто никто никому не нужен...»
И, спросив себя, Игореха почувствовал, что мысль ускользает, что на смену ей пришла какая-то легкость. Он хотел припомнить что-нибудь светлое и хорошее, что у него было в жизни, и не смог. С равнодушием он подумал, что не может ни вернуться на берега Свапы, ни оставаться здесь. О заливе он даже не вспомнил, словно бы его и не существовало, но зато мелькнул обрывок мысли о том, что люди жестоки.
— Отчего же так? — спросил он вслух и неожиданно рассмеялся во весь голос, словно бы только теперь понял то, что следовало понять давно.
Сермяков уставился на него с немым вопросом, штурман выглянул из своей кабины и смотрел то на него, то на командира. И вид у него был испуганный. Игореха ничего этого не замечал, он тут же затих и так же, как прежде, бесцельно смотрел вперед. Вместо пассажира он видел Якова; казалось, тот летел теперь с ними. Выглядел Яков все таким же сирым, каким прикидывался всю жизнь, босые ноги его были грязно-желтыми, но властно, так же, как прежде, тыкал он Игореху искалеченным пальцем.
— Я говорил, не ведаем...
— Яков, — сказал ему Игореха. — Ты давно мертвый...
Тот ехидно хихикнул и пропал.
Сермяков, решившись, что-то спросил, но Игореха не ответил. Он боялся той легкости, что пришла вдруг к нему; стискивал штурвал руками, вроде бы понимая, что теперь это единственное и прочное, что может придать ему силы.
Заход на посадку он выполнил отлично, выдержал и скорость, и высоту. Колеса коснулись бетона строго у посадочных знаков. Приземление вышло мягким, едва ощутимым. Он плавно затормозил самолет и повернул его на рулежную дорожку. Сермяков, словно бы догадавшись о чем-то, внимательно следил. Ему хотелось похвалить Игореху, но он промолчал.
Они зарулили на стоянку, выключили двигатели.
И как только вышли из самолета, сразу же увидели под крылом инспектора, который с притворным вниманием присматривался к колесам. Сермяков тихо чертыхнулся: он заметил неубранные закрылки. «Как же это я?!» — сказал он с сожалением, потрогал зачем-то кокарду на фуражке, и твердым шагом направился к инспектору.
— Когда должны быть убраны закрылки? — спросил тот сразу, даже не ответив на приветствие. — Я спрашиваю!
Голос у него был радостный и звонкий, как у образцового пионера, а сам он гляделся важно, неприступно, и Сермяков, совсем некстати вспомнив дежурную по посадке, подумал о том, что инспектор начинает с простого пилота, но после забывает об этом и ведет себя так, будто явился прямо с небес. «И летать-то, зараза, не умеет, — мелькнуло у него в голове, — а научит любого!»
— Виноват! — сказал Сермяков, глядя инспектору прямо в глаза. — Виноват! — повторил он, забыв, казалось, все другие слова.
— Кроме того, — инспектор повернулся к Игорехе, который стоял боком к нему и ничего не слышал, — у него рубашка в полоску, а у нас соблюдение формы...
Сермяков взглянул на рубашку Игорехи, но никакой полоски не увидел. Неизвестно, как бы он ответил инспектору, но тут Игореха без единого слова повернулся и пошел прочь.
— Стой! — крикнул инспектор и кинулся вслед.
— Вот дурак, — определил Сермяков инспектора и тоскливо подумал о том, что придется держать ответ перед командиром отряда.
А Игореха заболел, что-то надломилось в нем, и летать он больше не смог. Да и забыл полеты, Сермякова забыл и речку Свапу. Жил себе тихо, только изредка, заслышав гул самолетный, тревожился и глядел в небо. Думал, что гремят грозы. Но кончилась осень, шли дожди, гроз не было и в помине. Игореха ничего этого не понимал, и пришлось насильно надеть ему на голову шапку, когда подступили холода.
Сермяков, узнав о болезни Игорехи, напился до беспамятства, кричал сдуру, что летать больше не будет. Но после отошел, работал, как прежде, часто вспоминал Игореху, качал головой и приговаривал: «Тяжелый случай!» И сиротливо оглядывался вокруг.
По ночам над этими местами восходит удивительное по красоте созвездье Ориона; чистый, загадочный его свет струится на землю, алмазами горят три звезды Пояса, красновато подмигивает Бетельгейзе; темное глубокое небо усыпано множеством других, по-южному крупных звезд.
— Эх, Георгий! — весело сказал Игнатьев Ступишину, когда они остались вдвоем. — Летаем мы с тобой каждый день, то один город, то другой, и до того привычно это, Что уже ничего и не замечаешь: керосин заправил, у синоптиков побывал, подписал у диспетчера и — на взлет!