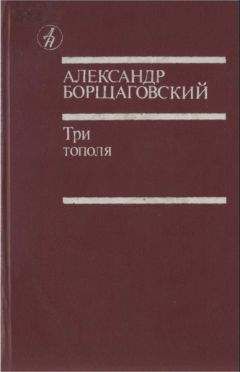— В потребкооперации, — с достоинством ответил Полещук.
— Ведаешь? — спросил Петр Егорович.
— Третью неделю. Неужто Нюрка не говорила?
— Не ты у ей в голове, — сказал Петр Егорович со значением.
— А что? — насторожился Полещук. — Гуляет?
— Нюрка погуляет! — словно даже обиделся пастух. — Она об доходах думает — совсем присохла. Хватится, а уж ее не то что парни, зеркало и то не примет.
— При деньгах она всегда свое возьмет, — сказал Полещук.
— Мне ее мать хвалилась, — не унимался пастух. — Нюрка, не крамши, мол, десятку в день снимет, и, как ни считай, сойдется. А если б совесть потеряла, то и все тридцать ее. На одном дню.
— Хватил! — засомневался кто-то со стороны.
Цифра фантастическая: горбом, кровавыми мозолями за весь сенокос только и возьмешь тридцать рублей.
— Глупости! — ободрился и Полещук. — Болтает беспамятная старуха, а ты слушаешь. Ревизия подойдет, — добавил он строго, — как бы своих добавлять не пришлось.
— Свои у Нюрки только волоса, — сказал пастух. — А деньги наши. Денег и у правительства своих нет — все наши… Понял?
Спорить никто не стал; сторожкая тишина упала вокруг. Полещук странно повел головой — то ли недоумевал и сердился, то ли потерся сухоньким затылком о воротник френча.
— Ты, Полещук, вроде меня, — сказал с подозрительной щедростью Петр Егорович, — гвоздь у тебя в одно место забитый, никак в должности не усидишь. Или не дёржат?
Полещук хмыкнул: легко, презрительно, но не дрогнул лицом, будто и хмыкнул-то не он.
— В каком же ты звании, Петр? — спросил он просто.
— Телят пасу. Триста дурачков на мне.
— За трудодни?
— По договору, — хвастался пастух. — Как у людей. Я, брат, и при овцах состоял, резал при нужде. Коров как бил Сычев, так и бьет, а мое звание меньше. — Он стал загибать темные, неподдающиеся пальцы. — Хозяйских коров пас, потом баржу на дрова ломали, потом причалы новые ладили, баню ставили, конюхом еще покатался, при больнице… А год только еще идет, еще год не при конце. Выходит, и тебе за мной не угнаться, любой службист — слабак против меня. Вас с места гонют, а я сам ухожу.
— Коров зачем бьете? — неодобрительно спросил Полещук.
Он упорно не смотрел на пастуха, а искоса, украдкой, оглядывал рослую Любашу, ее в нерешительности замершую фигуру, ее доброе, недоумевающее лицо, будто ей слышно было не то, что говорили вокруг, а дальние голоса, с другого берега, где стоял ее осиротевший дом.
А из кабины на Любашу смотрел шофер, выделяя ее из всех и угадывая в ней такое, чего в Любаше, может, и не было, что непременно хочется увидеть в чужом, приглянувшемся тебе человеке.
— Кто это вам позволил коров бить?
— Закон такой вышел. — Пастух схитрил: а вдруг поверит?
— Нет такого закона, — твердо сказал Полещук. — Запрет есть.
— То-то и оно, что нет закона! — вздохнул Петр Егорович. — А надо бы такой закон; мужик — не хорек, зря душить живность не станет.
— Видишь, Полещук, у нас какая забота… — вмешался в разговор сидевший на косилке краснолицый, с тяжелым взглядом мужик. — У нас скота набралось лишку: хоть каждый куст обкоси, до весны всех не профуражим. И зимнего места им нет; деньги в банке лежат, а их тоже не возьмешь, чтоб коровник лишний поставить. Это, говорят, баловство, поверх плана выйдет, обратно государству обида и вред. А у нас и яловые, и бычков сверх всякой нужды. Пробовали в область возить — не берут, ни так, ни на мясо, только бензин зазря жгем и нервы, значит, безвинной скотине вконец треплем. Вот мы и приноровились: кругом яры, ямы, — он показал через Оку, на высокий овражистый берег, — забредет туды корова, и ногу ей пустяк сломать. Базары у нас, как были, по вторникам, вот в понедельник одна-две коровы и сверзятся, чтобы мясу долго не лежать.
— Скотина-то у вас тут, на пойме, — поразился Полещук, — как ей в яры попасть?
— Попадает… — скучно сказал мужик, пожалев вдруг, что сболтнул лишнее. — Может, и вплавь. Скотина тоже свой смертный час чует.
— Особливо яловые! — перебил его Петр Егорович, бесстыдно подмигнув Полещуку. — Особливо под базарный день!
— И продаете? — спросил Полещук.
— Продае-ем! За рупь за двадцать!
— А вымя? — спросил Полещук.
— И вовсе по дешевке! Приезжал бы к нам с хозяйкой под базар!
— Мне об этом и подумать некогда, — строго сказал Полещук. — Редкий день пообедать успеешь. Ты, Петр Егорович, не равняй нас. Меня перебрасывают — понял? Я дело делаю, а ты, полагаю, пьешь.
— Пью, когда подносят, не обижать же людей, — миролюбиво сказал пастух. — Жердя продам — тоже выпью. А ты сено кому взял? Или тоже на продажу?
Он сказал это нехорошо, нахально даже, но Полещук все еще надеялся уйти от ссоры.
— Нам, — ответил он неопределенно, — в Рыбное.
— Ефи-и-им! — позвал паромщика зычный голос майора. Майор нетерпеливо обошел паром, заглянул в дощатую пристройку и решил, что паромщик толкует о чем-то с людьми у машины.
— Ефим Лыску свою к быку повел, так думаю, — сказал Петр Егорович. — Теперь ждать надо.
— Давно он ушел?
— Мы как раз на подходе были. Я их сдаля узнал, у фермы: Ефима, Маню и Лыску. Лыска против солнца и на корову не похожая, коза тощая.
— Тоже время выбрал, — сказал майор.
— Время хорошее! — Пастух загадочно улыбнулся. — К ночи. Самое аккуратное время.
Любаша подхватила с палубы бидон, подошла к мужикам, сдернула белый платок, которым была укрыта насыпанная по самый верх ягода.
— Держи, Петр Егорович, — сказала она хрипловатым теплым голосом. — Обе руки держи…
Ягоды посыпались в темный ковш ладоней, в нос мужикам ударил густой сладкий запах, он возвращал их в луга, на поросшие травой вырубки, возвращал памятью, безмятежно, ради удовольствия, а не для тяжкого труда.
— Ешь! Ешь! — сказала Любаша пастуху, который поднял руки к лицу и обнюхивал ягоды. — Ее в лесу много. — Наклонившись, легонько потряхивая бидон, она сыпала ягоду в узкий ковшик, сложенный краснолицым мужиком. — И вы держите! — сказала она майору, опустившему руки по швам. — В лесу живете, а ягоды, верно, не пробовали? Лень наклониться.
Со щемящей, плохо объяснимой обидой Яша ждал, что женщина повернется к Полещуку и щедро насыплет ягод и ему. Женщин Яша уважал и стеснялся; чаще всего он тревожно задерживался на тех, кто был старше его, в ком, рядом с таинственным женским началом, уже проступало и другое — спокойное, материнское, на тех, в ком, по его разумению, жил какой-то секрет, а таких, у кого и душа и мысли были наружу, Яша нисколько не ценил, беспричинное же веселье даже презирал. Любаша привлекла его какой-то неприкаянностью, отдельностью своего существования на пароме, все в ней было неумышленное и цельное, такое, что иначе себе ее и не представишь. Короткие мужские сапоги едва достигали до загорелых икр, колени были полные и сильные, под старым, уже непригодным для службы почтарским костюмом угадывалось тоже сильное, чуть оплывающее тело, а черные волосы плотно, глянцево лежали над загорелым лицом с пугающе темными кругами у глаз.
Любаша подошла к Полещуку, и он поднял руки не сразу, а после того, как с сомнением пожал плечами, ладони сложил не широко, и руки у него были небольшие, так что ему перепало куда меньше ягод, чем Петру Егоровичу.
Яша уже заерзал на сиденье, чувствуя, что пришел его черед и он должен будет протянуть женщине руки — сбитые, грязные, дрожащие от усталости после того, как Полещук заставил его грузить машину сеном; он уже вспыхнул румянцем, но тут Любаша сказала Полещуку дрогнувшим, жалобным голосом:
— А Сереги моего нет, Полещук. В августе — год. Слыхал?
— Пришлось, — тихо ответил Полещук, сдвигая ягоды большими пальцами к середине. — Жаль.
— Уток мечтал пострелять, а не привелось. — Бидон повис у нее в руках. — Один патрон выстрелил, и тот в него. В живот. Так и не поохотился.
— Это особо жаль, — серьезно сказал Полещук, не решаясь есть, пока длился разговор. — Сын, говорят? Сын! Не так воспитываем.
— Он не виноват. — Любаша тихо повела головой. — Нисколько не виноват, а тоже казнится. Из дому ушел. В ремесленное. Я его и не попрекнула ни разу.
— В ремесленном заведомый разбой, — сочувственно сказал Полещук. Сухими губами он захватил несколько ягод.
Шофер смотрел на подрагивающие от укусов слепней крупы лошадей, на спасательный круг, на синеватый безоблачный небосклон. Смотрел и не видел ничего, а только слышал разговор Полещука и Любаши, тихий, почти шепотный, словно только и было у нее радости, что эта нежданная встреча.
— Вот и живу одна на старости лет.
— И зря. Ты свое бери, свое брать не грех. Теперь никого за пост не хвалят. Спохватишься — поздно будет. Жизнь и так неласковая, а к бабам, можно сказать, лютая.