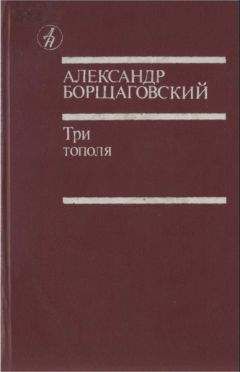— Ты, бабка, профессор по браконьерству, — сказал майор. — Может, и сама промышляла?
— Было! — гордо сказала она. — Как не быть — было. Мой старик первым в этим деле числился. Жаль, не застал ты его. — Она горестно вздохнула. — У нас до тебя тоже инспектор шнырял, злой был, пес, за моим охотился и на моторке, и на веслах, и только что не вплавь… Нырял даже под его, а все — ничего! Мой у него меж пальцев ходил, а в крайности утопит сеть и — концы, а через денек крючкём зацепит, и обратно наша! — Бабка даже посветлела лицом. — Мой и помер-то от реки. На леща позарился, уж под самый лед, под мороза, искупался ненароком и в три дни стаял… — Грустные события вернули ее на грешную землю. Все это было в прошлом, но хмурые лица мужиков и пристальность жгучих глаз майора обеспокоили вдруг бабку. — Сегодня и мой старик против закона не пошел бы, — сказала она просветленно, — а в те лета нужда гнала. Хлебушка и то купить не на что было, и табаку даром не дают.
— На хлеб много ли надо, бабка? — упрекнул ее майор за лукавство.
— Коль при деньгах — мало, а нет их — ой как много! Ночью проворочаешься, думаешь об них, а утром глядишь — обратно их нет. Из чего ты их, милый, сделаешь? Мужик все добыть может, из земли даже, а чего земля не родит, то умом сотворит. Все, окромя денег.
— А теперь, значит, разбогатели? — ввязался в разговор Петр Егорович.
Бабка кивнула.
— Теперь вам пенсия вышла, так, что ли? — весело угадывал он ход ее мыслей.
— Она. — Бабка ждала подвоха. — И нам, и вам.
— Двенадцать рублей? Четыре, значит, бутылки и триста грамм карамели?
— Дурак и меряет жизню бутылкой, — сказала бабка.
— А ты?
— Наперстком, Петр Егорович! Нас нужда счету научила. Тебе бутылка, а нам хлебушко, сахар, соль и керосин…
— Обратно на табак не вышло! — крикнул кто-то из толпы.
Бабка пренебрегла легким укусом: курят мужики, а коли жив и старик, то в доме не двенадцать, а все двадцать четыре рубля, хватит и на табак. Не вставая с бревна, она стала кланяться, угодливо, часто, по-церковному, поникая маленькой головкой перед майором, стоявшим в расстегнутой гимнастерке, с крупными каплями пота на лице.
— Засветила и нам жизня, при самом конце, а засветила, — быстро выговаривала она. — Вышла нам жизня, мы уж и не чаяли, а вышла… Устроилась… У кого дрова на зиму припасены, тому и вовсе жить можно… И умирать не приходится… Живи до весны барином!
— Подвел нас Ефим под монастырь! — сказал вдруг майор с преувеличенной озабоченностью.
— Ты плотиной ходи, — великодушно посоветовала бабка, — а машину мы перевезем. Ходи, тебя пустят.
— Пока пускают, — усмехнулся майор.
— Ты при важном деле, — льстила ему бабка. — Тебя нельзя не пустить… Пожалуй, еще ты и над ними стоишь, верно?
— Я сам по себе, и они сами по себе, — сказал майор. Легкая плотина, из металлических звеньев, узкая, с настилом в четыре доски, чернела на реке. — Ладно. Подожду. Мог бы и днем корову привести, днем мало кто едет.
— Днем не то, — сказал спокойный лобастый мужик, устроившийся на палубе так, будто он здесь и ночевать собирался. — Днем Лыскина нужда в половину бабкиной пенсии обойдется. А он, видишь, тайком хочет, по сговору. Тоже, выходит, браконьер.
Кругом засмеялись неожиданному обороту, а Петр Егорович, заметив рядом с бабками двух сонных от усталости мальчишек, скомандовал:
— Семка! Ну-ко, давай на столб, дозорным! Сигналь нам!
Мальчик мигом согнал с себя сонливость, побежал на берег и забрался на обстановочный речной столб. Сорвался с парома и второй мальчишка; они повисли на столбе, резко очерченные в стынущем небе.
— Ну? — закричал Петр Егорович. — Идут?
— Не-е… Стоят! Поврозь они! — закричали наперебой мальчишки.
За спиной Полинки толкались люди помоложе. Их все еще привлекала Полина, хоть она и ушла бесповоротно в бабье сословие и в немногие годы родила Грише Лазареву четверых. Полнота пока красила ее; лицо Полины казалось молодым и нежным, яркий рот был приоткрыт, а синие выпуклые глаза, если вглядеться, могли и поразить и обеспокоить надолго. И говорила она в нос, будто дразнилась или завлекала тебе одному предназначенным смыслом.
По одну сторону от Полины — разведенка Раиса, почтальон из лесной деревушки Бабино, она иной раз приходит сюда в большое почтовое село с ночевкой, чтобы не делать два далеких конца в один день. По другую — тракторист Василий, женатый на худосочной учительнице пения, которая быстро от него устает и держится в сторонке, подальше, уныло наблюдая за его неуемной, громогласной жизнью. Василий то перегибался за борт, поглядывая сбоку в улыбчатое лицо Полины, на ее толстые колени и шевелящиеся в воде пальцы ног, то хлопал ее ладонью по спине и пониже, уверяя, что бьет комаров и слепней.
— Не балуй. Слышь, не балуй!
Это говорит не Полинка — она будто и не замечает ни взглядов Василия, ни тяжелых шлепков, — а Раиса, не причастная к ним, безразличная с виду. Вытянутое ее лицо не по годам желто и строго, хороши только крупные карие глаза под разлетистыми бровями.
— Ты, Раиса, все еще без хомута? — старается задеть ее Василий. Он выпрямляется, и видно, какого он удивительного роста; Петр Егорович и тот ему не пара.
— Еще от старого хомута болячки не сошли, — сказала Раиса. — Нужны вы мне! Сбегаешь тридцать верст в оба конца, об вас и не вспомнишь, как вас черт скроил.
— А в праздник? — гнул свое Василий.
— В праздник плохо. — Раиса облокотилась о перила, карие глаза ее задумчиво оглядывали высокий берег. — А с вами и того хуже: с вами и в праздник скука смертная.
— Со мной весело! — Василий самодовольно засмеялся. — Со мной, бабоньки, кругом аврал!
— И с тобой скучно, — безжалостно сказала Раиса. — На твою вот глянуть, сразу видно: заел ты ей жизнь. Девкой она веселая была. — И вдруг переменившимся голосом: — Полинка! Твой-то ждет!
— В районе он, — беспечно сказала Полина. — За шифером уехал, с ночевкой.
Ока побежала навстречу ее синим глазам, лаская прохладой, тихими всплесками, показался и берег, лодки на отмели, рыжие осыпи. Она нигде не видела Гриши.
— Ты наверх смотри, — сказала Раиса. — Во-о-он, за липой сховался, рукав видать. Его рубаха?
— Его… — Полинка проворно поднялась, стала обуваться, поглядывая на холмистый берег, на могучие стволы лип, за которыми, как мальчишка, прятался ее муж Григорий. Смотрела счастливая и обеспокоенная, будто она виновата в том, что молчал мотор и паром не плыл к тому берегу. — Где же этот черт, Ефим? — сказала она сердито.
— Чего хвостом забила? — грубо сказала Раиса. — Ну, приехал. Дети досмотрены, и то ладно.
— Скучаю я за ним, — призналась Полинка, не стыдясь, не кроясь, а только так, чтоб Василию не было слышно.
Но он услышал.
— Боится она, Раиска, — сказал он самодовольно. — Он у нее, старый черт, ревнивый… Ну, так! Пускай мучается! — Василий обхватил плечи Полины, стал мять ее пышущее жаром, не остывшее после долгой работы тело и делал это словно играя, напоказ, но и не без своего, мужского интереса. — И что ты в нем нашла, в Григории Ивановиче!
Полинка кулаками толкнула Василия в грудь так, что он едва удержался на ногах, схватившись за перила.
— Ох и сильна! — восхитился Василий, оглядывая сердитую, косолапо топтавшуюся по палубе Полину. — И фары синие, глянуть страшно!
— Доиграешься, парень! — Синева ее глаз сделалась недоброй, она не на шутку сердилась. — Убьет тебя Григорий.
…Седой аккуратный мужичок с вытекшим глазом все вертелся около молоденьких практикантов: стройной маленькой кореянки и тощего, в городском пиджачке и кедах очкарика. Старик был из Верхнего, приехал к парому на косилке, свежий, подтянутый, как новобранец, на ремне через плечо, по-военному, висела холщовая сумка. Он то надевал старую милицейскую фуражку, будто намереваясь подойти к молодым, то снимал ее, поглаживая ладонью белые волосы на сухонькой голове. Он видел днем, как эти двое замеряли рулеткой сено, был туг на ухо и очень хотел бы услышать, о чем они шепчутся.
— Ты ее, парень, как зовешь? — не утерпел он наконец.
— Соней!
— Софья, значит? — удивился старик. — Вера, Надежда, Любовь и мать их София.
— Софья!
— Каким же это боком? — Он уставился единственным, голубоватым суетным глазом на девушку. — Ты вроде не русская?
— Кореянка. — Она улыбнулась. — У меня и мать была Соня.
— А ты? — обратился старик к очкарику.
— А меня, представьте, зовут Николаем! — Толстые его губы тронула ироническая улыбка.
— Скажи ты, святые угодники! И я Николай! — Старик хлопнул себя по бедрам. — Видать, всем народам наши русские имена пришлись. А фамилия мне Незять: редкая, второй такой не сыщешь. Не зять, — сказал он раздельно. — Незять, а в зятьях тридцать лет бегал. — Он восторженно хекнул: — И мать, говорит, Соня!