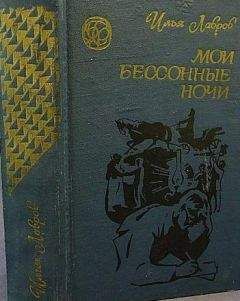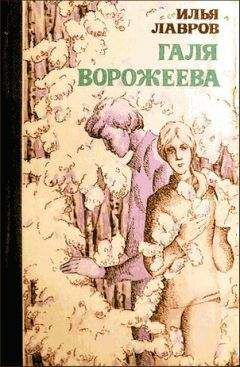Как-то мы с Марией пришли к ней домой. В низкой избе было бедновато и тесно. Но меня восхитил ее стол, заваленный рукописями, сборниками стихов, карандашами, пачками папирос. Среди всего этого красовался человеческий череп, превращенный в чашу для вина. Его подарили ей медики-студенты.
— Сашка, ты шальная! — воскликнула Мария. — Это же не девичья комната, а медвежья берлога!
Саша смеялась, восклицание Марии было для нее лучшей похвалой.
— Слушай, я тебе новое написала! — Саша вскочила, принялась рыться в груде рукописей.
А меня, как всегда, настигла немота. Я окаменел от идиотской стеснительности, приткнулся в углу, страдая от сознания своего полного ничтожества. Кто я? Мальчишка! Ей уже девятнадцать, а мне всего лишь тринадцать. Как я ненавидел эти свои тринадцать жалких лет, свою длинную тощую шею, свой широкий с большими ноздрями нос!
— Вот, слушай! — наконец отыскала Саша листок из блокнота.
Читала она слишком пылко, с озорной усмешкой а глазах. Мария тоже смеялась.
Я хочу на веселейшем свете
Развеселым рабом твоим быть,
Оставаясь при этом поэтом,
С вечной песней, еще не пропетой!
Для тебя, для стихов только жить
Я хочу на веселейшем свете!
Я глядел на нее во все глаза. И, должно быть, выдал себя. Она вдруг посмотрела на меня пристально, серьезно. И спросила:
— Тебе нравятся?
— Ага, — хрипло выдавил я, заливаясь краской… Теперь издали вспоминаю Сашку Сокола и вижу, какая же это была милая фантазерка, которой больше всего хотелось походить на лихого парня…
Она стала агрономом, уехала в деревню. В то время агроном в деревне был редкостью, а тем более агроном-девушка. Сутками не слезала она с коня, в зной и в ненастье ездила по полям.
В закрытой церкви ставила с деревенской молодежью спектакли…
И вдруг — умерла. Умерла в глухой деревушке. Почему? Не знаю.
Долго меня мучила внезапность и нелепость этой смерти. Мне все казалось, что тут какая-то ошибка, что жив лихой Сашка Сокол и где-то куролесит на «этом веселейшем свете», так и не узнав, что подарил мальчишке с тощей шеей первую любовь…
Ну вот, все и кончено. Расчет на работе получил, документы оформил… Уголь и дрова привез. На зиму должно хватить. Картошки в подполе мешков пятнадцать… Кадка огурцов да капусты кадка. Все-таки, на первое время, что-то есть… Мама не будет уж так беспокоиться… И Марии полегче, хоть часть зарплаты сможет оставлять на платья или на туфли. И Муромец может учиться… Плоховато он одет и худой очень… Ну да ничего, вытянет…
Наверное, так думает Шура.
Он сидит на своей кровати, рядом с ним Мария, а я — на своей, и рядом со мной мама. Алешки нет, он уехал работать на Кузнецкстрой. Вылез из своей пристройки отец. Все-таки сын уходит в армию. Отец сидит в сторонке, на Алешкиной кровати, старательно курит. От него пахнет березовым веником, он только что из бани. Лицо распаренное, в каплях пота. Мокрые волосы тщательно расчесаны на пробор. На шее висит льняное полотенце.
Шуру призывают в армию.
Мария хотела собрать родных, но Шура отказался от шумных проводов, от выпивки, от гулянки. Не любил он все это.
Шура заранее сходил к теткам, попрощался, чтобы сегодня побыть только с нами.
У Марии лицо грустное, у мамы играет лихорадочный румянец — она всегда от волнения хорошеет, а у меня на душе — уж лучше и не говорить: целых два года не будет со мной Шуры.
— Хватит ли картошки? — озабоченно спрашивает Шура.
— Да бог с ней, с картошкой! Проживем, — отмахивается мать и вытирает глаза обшлагом бумазейного платья, прихватив его изнутри пальцем.
— Чего ты, — Шура тихонечко, ласково смеется, — не на войну же иду.
А о войне в стране говорили, к ней готовились, ее ждали. И Шура был уверен, что ему придется воевать. Как-то однажды мать сказала ему:
— Плюнул бы ты на нас, Шура, да и женился. Чем не пара тебе Саша?
А Шура по-своему, усмешливо, гмыкнул и памятно ответил:
— Жена моя — винтовка, а постель — чистое поле.
Он как в воду глядел, понимая судьбу своего поколения.
За окном моросит мелкий, не делающий грязи, дождик, его даже воробьи не боятся. Они притулились на мокрых, голых тополях, увешанных множеством капель. В комнате немного сумрачно.
— На, — Шура протягивает маме пачечку денег. — Расчет.
Отец сильно затягивается, стряхивает пепел. Он, должно быть, чувствует себя неловко. Не он здесь хозяин — Шура.
— Зачем? Себе возьми! — протестует мать. — Папироски купить, в кино сходить, да мало ли на что они понадобятся!
— Я взял себе. Шура развязывает сделанную из мешка котомку, лежащую у него в ногах на полу.
— Да там ничего нет лишнего, — беспокоится мама.
Я смеюсь. У Марии грустные глаза улыбаются. Все мы знаем Шуру и знаем, что сейчас будет.
Шура вытаскивает за узел мамин, синий с красными вишенками, платок. В нем шуршит газетами объемистый сверток. Шура иронически гмыкает, кладет сверток на подоконник, разворачивает газеты, и я вижу кусок сала, горку картофельных и капустных пирожков, десятка два потрескавшихся яиц, кирпич хлеба, купленный на базаре с рук, банку с яблочным повидлом, кусок вареного холодного мяса. Шура хмурится. Он знает эти базарные цены.
— Перестань, бери, — говорит Мария.
— Да когда вас еще кормить-то будут, — беспокоится мать.
Шура извлекает из котомки белье и сует его на Мариины колени. Появляется шапка, и опять раздается ироническое «гм». Шура нахлобучивает ее на мою голову. Вязаные мамой носки ложатся на Мариины колени. Полосатая, еще не ношенная сорочка с двумя прицепными воротничками падает на мое плечо.
Мать в отчаянии хлопает себя по коленям.
— Вот, ведь, поперёшный!
Носовые платки, земляничное мыло, бритва, пачки папирос, конверты, кружка, ложка — все это переходит на Мариины колени. Она придерживает их. Из недр котомки появляются брюки и ложатся на мое второе плечо.
— Ну, пошел рыться, — смеется Мария, а мама только рукой машет.
Шура вытягивает крупно вязанный из зеленого гаруса шарф с белыми кистями и, подойдя к отцу, надевает этот шарф поверх полотенца.
Котомка опустела, лежит на полу круглым гнездом. Шура сгребает в нее все с Марииных колен, заворачивает в газету три пирожка, три яйца, отрезает кусок хлеба и все это отправляет в котомку. Из книг на полке вытаскивает любимые «Мертвые души» — и тоже в котомку.
— Вот все, что мне нужно, — и он ласково-насмешливо улыбается.
— Это уж так, солдат — шилом бреется, дымом греется, — степенно вставляет отец. — Все его имущество — кружка да ложка.
Дальше Шура распоряжается: мать должна носить его новое зимнее пальто, а я могу переделать себе его костюм.
Сам он уходит в стареньких брюках, в телогрейке, в порыжелой кепке. В этой одежде он работал, лазил по столбам.
Он просит только сохранять его рабочий инструмент, заботливо сложенный им в ящичек под кроватью.
— Это уж первое дело, — соглашается отец, вытирая полотенцем высыпавшие на лице капли.
Шура взглядывает на стенные дедовы часы с резным деревянным кокошником и поднимается.
Он трижды целуется с Марией, она и смеется, и плачет.
— Пиши чаще. А о нас не беспокойся. Мы под своей крышей остаемся.
И с отцом Шура трижды целуется.
— Счастливо служить. — Отец охлопывает свои карманы. — Дал бы чего-нибудь в дорогу, да сам, как солдат, кроме ложки да рта, ничего не имею.
— Не надо ничего, — успокаивает Шура. — Ты лучше перебирайся в дом, чего тебе мерзнуть зимой в пристройке…
Мама и я провожаем его до военкомата. Идем по сырым улицам. На спине Шуры котомка. Уже внутренне освободившись от всех забот, уже ушедший в иную жизнь, он облегченно вдыхает свежий, осенний воздух.
Денек моросящий, серый, блестят мокрые мостовые, асфальт площади, железные крыши, магазинные окна без рам, деревья, автомобили. К ногам прилипают бурые листья. Из водосточных труб не течет, а лишь редко капает. Но почему же так мил этот серый денек? И почему как-то по-особенному бьется сердце и все тебе дорого?
Шура с удовольствием смотрит на улицы, на дома, — прощается. Он еще никуда не уезжал из этого города и сейчас полон предвкушения встречи с новой жизнью, с новыми людьми, с неведомыми краями.
А вот и двор военкомата. Толпа парней, с мешочками, с котомками, курят, хохочут, перекликаются. Сидящие на бревне дружно поют:
Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
На разведку в поля поскакала…
Мы с Шурой любим эту песню. От нее и грустно, и хочется совершить что-то необыкновенное.
— Ну вот видишь, ничего страшного и нет, — подбадривает Шура плачущую мать. — Все свои ребята.
А мать уткнулась ему в грудь, едва выговаривает: