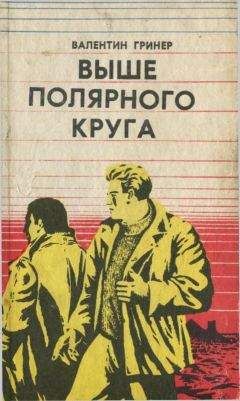Директор шахты улыбнулся:
— Нет. Собственное производство. Можем обеспечить этим товаром весь Печорский бассейн. Из обрывков транспортерной ленты изготовляем. Сделали специальное приспособление — и штампуем. Дешево и надежно. Что же добру пропадать?!
В те времена Мартынов только-только принял шахту «Промышленная», которая долгое время находилась в состоянии полной запущенности. И мне показалось странным, что в тех сложных производственных условиях директор думал о таких мелочах, как использование обрывков транспортерной ленты.
Вникая в детали хозяйственной деятельности Мартынова, я стал понимать, из чего складывалось благополучие шахты и кто его складывал. Большие и малые дела Павел Ефимович делал тихо. Поэтому многим показалось странным, что именно скромного Мартынова заметили и достойно оценили его двадцатилетний труд на Крайнем Севере.
Однажды я позвонил в редакцию республиканской газеты «Красное знамя». В конце разговора ответственный секретарь как-то между прочим сказал:
— Да, старик, с тебя причитается.
— За что?
— За Мартынова. Скажи ему, чтобы колол дырку…
— Орден?
— Да. Вместе с Золотой Звездой. Указ уже заверстан.
Листаю старые блокноты. Отыскиваю интересные цифры. С удовольствием перечитываю записи, сделанные при многочисленных встречах с Мартыновым, рабочими, инженерами, партийными работниками шахты. Записей много. Они и составили повесть, предлагаемую читателю.
В одной из бесед Павел Ефимович сказал мне:
— Другой раз до того умаешься, что бросил бы все и пошел на самую рядовую работу. Трудная это должность — директор. Не каждый для нее подходит, и не каждый на нее согласен пойти. Какие преимущества у директора? Власть? Слава? Но ведь существует и оборотная сторона медали: ответственность, многотрудные заботы. Чем это окупается? Материальными благами? Не очень. Моральным удовлетворением? Как сказать! Сознанием гражданского долга? Желанием отдать все, что можешь, ничего не утаив про запас?.. А что взамен? Рабочий день с восьми утра до десяти вечера. Ночные звонки. Ежедневные тревоги за судьбу плана, за жизнь сотен людей, которые под землей не в бирюльки играют… Быть руководителем — значит, всю жизнь пить настойку полыни.
В городской газете опубликован фельетон, в котором Мартынов «разделан под орех». Директор «Промышленной» обвинен в самоуправстве, даже в самодурстве, в увольнении рабочих без согласия шахтного комитета. Более того, председатель шахткома Болгов подвергся травле и нападкам со стороны зарвавшегося руководителя. Автор фельетона выражает уверенность, что народный суд, куда обратились пострадавшие, восстановит справедливость.
Да, плохо начал Павел Ефимович на новом месте. А я собирался поддержать директора в республиканской газете, рассказать читателям о его нововведениях, о настойчивости и справедливом подходе к людям. Статья уже лежит на столе. Надо отправлять в редакцию. Надо ли?.. Как это будет выглядеть по отношению к коллеге из газеты «Заполярье»? Что подумают читатели? Пожалуй, следует поехать на шахту и терпеливо разобраться во всем. Может быть, мои симпатии к Мартынову ложны. Может быть, он в самом деле узурпатор, а его назначение на должность — ошибка.
Подожду несколько дней, пока Мартынов успокоится…
Но он не успокоился; встретил недружелюбно. Не подал руки, не предложил сесть, — кивнул и продолжал разговор с какой-то женщиной.
— Не могу я оставить его в бригаде. Не могу… — Павел Ефимович вышел из-за стола и стал смотреть в окно. — Из-за наплевательского отношения вашего мужа к своим обязанностям могли погибнуть люди. Он не выполнил распоряжение горного мастера, а пострадать могли десятки горняков.
— Он говорит, что это мелочь, — проговорила сквозь слезы женщина. — Всего одну стойку не поставил…
— Мелочей в нашем деле не бывает, — отрезал директор.
— Но ведь у нас четверо детей… Я не работаю. А вы его на три месяца на нижеоплачиваемую должность. Хотя бы на месяц…
— Я очень сочувствую семье, но изменить свое решение не могу. Тем более, что это не первый случай. Пусть призадумается…
Какое-то седьмое или девятое чувство подсказало мне, что женщина не уйдет так просто, что она бросит последний козырь — вспомнит о фельетоне. И она вспомнила. Лицо ее вдруг стало злым.
— Значит, правильно пропесочили вас в «Заполярке». Да жаль — мало! Надо бы больше. Некоторые по неделям пьянствуют— им ничего. А мой какую-то стойку не поставил…
— Идите, — оказал Мартынов сдержанно. — Разговор закончен.
— Выгоняете?! Прав у вас больно много!
Женщина шла к двери, бранясь на ходу.
Мартынов все так же стоял у окна, видимо, пытаясь отключиться от этого неприятного разговора.
— А я до сих пор считал, что газеты и журналы существуют для того, чтобы помогать производству, — сказал он наконец с тяжелым вздохом и сел на свое место.
— У меня на этот счет нет никаких сомнений, — ответил я. — Но бывают недоразумения. Ошибки, наконец. Журналисты тоже могут ошибаться.
— Пять процентов правды, а там шпарь, что душа подскажет?
— Нет, Павел Ефимович. Правда должна быть стопроцентной.
Если случаются какие-то издержки, то они остаются на совести газетчика. Это тяжелый груз. Если вы считаете, что факты искажены, то можно обжаловать. Даже подать в суд.
— Все факты правильны, — ответил Мартынов. — И я не сомневаюсь, что народный суд восстановит уволенных. Я знал об этом, когда подписывал приказ. И подписал. Сознательно нарушил трудовое законодательство, не посчитался с шахтным комитетом. Но ведь кроме народного суда, существует еще суд совести. На этот суд не все согласны отдать себя, когда речь идет об их собственном благополучии.
— Но нельзя же так сразу, под корень, — возразил я.
— Согласен. Нельзя вообще. Но в конкретной обстановке можно. И нужно! В конце концов, здесь не детский сад. И когда составляются планы производства, то никто не предусматривает издержек на недобросовестность исполнителей этих планов. Все рассчитано на идеальный случай. И так должно быть. Один не поставил стойку — завалилась лава. Второй не залил масла в буксу — сгорел двигатель. Третий напился и уснул в вагонетке — его завалили породой. Пятый посчитал возможным подраться с начальником участка только на том основании, что накануне они пили водку в одной компании. Шестой завтра придет и сунет зуботычину директору…
— Мне кажется, вы сгущаете краски, Павел Ефимович.
— Нет, не сгущаю. Люди разболтались окончательно. Я бы хотел знать ваше отношение к человеку, который забыл или не захотел заправить горючим самолет и тем самым подверг смертельной опасности десятки людей. Надо судить такого мерзавца или же воспитывать его? Мол, плохо ты поступил, Вася, в следующий раз так не делай. Я, например, не вижу существенного различия между этим самым Васей-заправщиком и крепильщиком, который поленился поставить необходимую стойку.
Заглянула секретарша:
— Павел Ефимович. Хасамутдинов просится к вам. Пустить его? Фамилия показалась мне знакомой.
— Пусть войдет, если просится, — сказал Мартынов.
Невысокого роста крепыш с лицом монгольского типа нерешительно переступил порог кабинета и остался стоять у двери, глядя в пол виноватыми глазами.
— Что скажешь? — спросил директор после долгого молчания.
Посетитель мельком бросил взгляд в мою сторону, сказал:
— Меня суд восстановил…
— Очень плохо, что восстановил.
— Разве я плохой рабочий?
— Хороший, — ответил директор.
— Тогда зачем увольнял?
— Считаешь себя правым?
— Не считаю. Виноват. Но закон на моей стороне…
— Закон — на твоей. Но лучше скажи, как дальше будем работать?
— Говорить не буду. Сам увидишь. — Он постоял немного молча и вышел. Мартынов сложил в стол бумаги.
— Прошу прощения. Уезжаю в шахту…
— Можно с вами, Павел Ефимович?
Директор неопределенно пожал плечами.
— Подобрать материал для очередного выступления? Для этого ездить не надо. Могу сказать вам в кабинете, что под землей пока полный кавардак. Думаю, этого достаточно, чтобы газета помогла шахте. — На слове «помогла» он сделал ироническое ударение и глянул на меня неожиданно устало и обиженно.
— Все же я поеду.
— Не пусти вас, опять окажешься плохим. Езжайте…
В проходческом забое одиноко стучал топор.
— Кипит работа, — иронически бросил Мартынов.
Трое проходчиков сидели на куче породы и громко спорили о чем-то. Четвертый неторопливо отесывал сосновую стойку. В глубине забоя стоял проходческий комбайн, уныло опустив свою колючую голову на длинной шее.