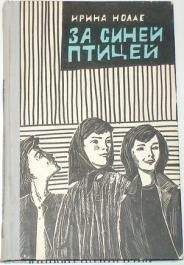— Порядок, бригадир! — встретила ее Маша. — Считай! — и пододвинула к краю стола четыре пачки варежек, аккуратно перевязанных шерстяной ниткой. — Сорок штук.
— Сорок? Ты что, Маша? — Марина переводила взгляд со своей помощницы на варежки и обратно. — Это же почти пятьдесят процентов дневной выработки?
— Ну, так ведь уже полдня прошло! Что ты так смотришь на меня? А знаешь, сколько мы сегодня с Варей сделали?
— Сколько бы вы ни сделали — девочки не смогли связать до обеда по одной варежке.
— А вот и смогли! — лукаво улыбнулась Маша. — Знаешь, как в сказке — по щучьему велению, по моему хотению?! Не веришь, так считай сама.
— Что проверять? — вмешалась Вартуш. — Качество самое хорошее. Первый сорт варежки, я проверяла.
Марина пересчитала варежки, связанные в пачки. Сорок штук.
Она пожала плечами и недоуменно оглядела свою удивительную бригаду. Верно — по щучьему велению…
Девчонки были оживлены, перемигивались, пересмеивались, но каждая из них держала в руках спицы или крючок, и Марине оставалось только поверить своим глазам — сорок штук варежек действительно отличного качества лежали перед ней на столе.
— Ну, а теперь давай читай дальше, — сказала Маша. — На них внимания не обращай. Они уже включились на третью скорость, и ты им не мешай. Поняла? На вот книжку. — Она открыла наугад страницу, ткнула пальцем: — Отсюда читай.
— Да подожди ты, Маша, — отстранила книгу Марина. — Я хоть одну варежку закончу.
— Тебе не обязательно, — категорически заявила Маша. — Тебе нужно культурно-воспитательную работу проводить.
— Все-таки я не понимаю…
— Какая ты непонятливая стала. Ну, считай: мы с Варькой по четыре сделали, да Сонька две, да Галина две, да Лида Векша… Сколько ты связала, рыженькая?
— Десять! — звонко откликнулась Лида, и все рассмеялись.
— Врет, — сказала Нина Рыбакова, — это я — десять, а она только пять.
— Какие болтушки! — с досадой проговорила Вартуш. — Зачем так много языком болтаете? Садитесь, слушайте, бригадир читать будет.
— И… смотрите, девчонки, беготню прекратите! — строго предупредила Маша. — Хватит, набегались. Сидите и помалу ковыряйтесь. Пойдем, Варвара, сходим в одно местечко.
— Куда это вы?
— Ну, куда, куда? Известное дело — куда: на пятый километр.
— И я с вами! — вскочила с места Лида Векша.
— Сиди, не черта тебе там делать, — оборвала ее Маша.
Лида послушно опустилась на табуретку и оживленно зашептала что-то на ухо Нине Рыбаковой.
Марина взяла книжку и стала читать вслух.
Звякали спицы, шуршали разматываемые клубки. Все больше темнело в углах, все настойчивее становился шорох дождя за окнами. Маша и Вартуш вернулись.
— Ну как? — с любопытством глядя на них, осведомилась Рыбка.
— Дура ты, вот как! — сердито ответила Маша. — О чем спрашиваешь? Мы на «пятом» были — не понимаешь?
— Ах, на «пятом»! Понимаю… — Лида опять рассмеялась. — Ну вот я и спрашиваю: там починили крышу?
— Починили, отвяжись. Опять, черти, свет задерживают… Ну, хоть коменданту жалуйся.
— А тебе свет зачем? — сказала Соня. — Ты и в темноте вяжешь.
Поработали еще немного. Потом Марина отложила книгу.
— Подсчитаем?
— Уже подсчитала. Пятьдесят две. И еще двенадцать бракованных.
У Маши почему-то было недовольное лицо.
— Я сейчас брак исправлю, — отозвалась от окна Вартуш.
— Разбирай по десять и складывай. — Маша пододвинула к Марине кучку варежек.
— Ты же говоришь — считала.
— Эти — еще нет.
Марина стала пересчитывать варежки, ощущая в душе какую-то неясную тревогу. Что-то здесь неладно… Откуда в первый день такая выработка?
— Сколько, ты сказала? — переспросила она Машу.
— Чего сколько?
— Да варежек же!
— Сколько тебе надо повторять?! Семьдесят штук. Что ты на меня смотришь, словно я тебе что-то должна? Опять неладно? То плакала, что не работают, теперь расстраиваешься, что много сделали.
— Ничего я не расстраиваюсь, а не может этого быть, что у нас такая выработка.
Маша махнула рукой:
— Занудная ты какая-то, бригадир. Эй, пацаночки! — повернулась она к девчонкам. — Споем, что ли? Сонька, давай сюда, ближе ко мне.
Синельникова отложила работу на табуретку и подошла к Маше.
— Споем, Соловей… Только я ваших блатных песен не пою.
— Ладно. Знаю…
Маша села на край стола и охватила руками колено.
За окном черемухе колышется… —
мягко и задумчиво прозвучал где-то, совсем не в цехе, а очень-очень высоко, незнакомый Марине голос.
Марина перевела изумленные и растерянные глаза на Соню Синельникову. Это разве она поет, эта некрасивая девушка? И разве этот хрустальный, звенящий звук — это голос Маши Добрыниной?
За рекой знакомый голос слышится
И поют всю ночь там соловьи…
Кажется, они пели эту песню по-своему — на другой мотив и с другими словами… И вкладывали в нее свою горечь и свою обиду — за неудачную свою жизнь да раннее познание этой горечи, и жаловались кому-то, и просили о чем-то…
Мне не жаль, что я тобой покинута…
Марина сидела, уронив руки на стол, глядя поверх голов поющих… Теперь пели все. И потому, что в цехе совсем стемнело, и лиц не было видно, казалось, что песня звучит сама собой.
Кто-то неосторожно уронил спицу.
За окном черемуха колышется…
Марина очнулась. В цехе было тихо.
— Да… — как в полусне проговорила она и провела ладонью по глазам. «Неужели расплакалась?..».
— Ну как, бригадир? — оживленное лицо Маши склонилось к Марине. — Хорошо поем?
— Ох, Маша! — только и могла выговорить Марина и схватила помощницу за руки.
— Да ладно тебе…
Маша смущенно отвернулась, осторожно освободив свои руки.
— А теперь, девочки, давайте плясать! Лидка, где ты там? Вылезай из угла!
Загремели табуретки, сдвигаемые к стенкам, девчонки вскакивали со своих мест.
— «Цыганочку»! С заходцем!
— Шире круг, пацаночки!
Лида Темникова вышла на середину. Остановившись, она чуть повела плечами и оглядела круг. И сразу же, словно повинуясь ее легкому движению, вспыхнула электрическая лампочка.
— Даешь!
Запели знаменитую «цыганочку» — самую популярную среди жулья мелодию, под которую мастерски бьет чечетку каждый вор. Сначала пели тихо, не разжимая губ. Рыжая головка Лиды поднялась выше, вот она откинула ее назад горделивым, грациозным движением и, чуть заметно перебирая ножками, медленно пошла по кругу. На лице ее застыло высокомерное выражение, глаза были чуть прикрыты длинными золотистыми ресницами, но вся она — тоненькая, изящная, — казалось, дрожала, как натянутая до предела струна.
Ритм становился все быстрее, мелодия звучала громче. Маленькие стройные ножки мелькали все быстрее, чаще.
— Э-эх, чаще, чаще!
Лида отбивала чечетку. Вокруг все хлопали в ладони в такт песни.
— Чаще, чаще!
Откуда у нее, этой простой русской девчонки, столько настоящего, страстного темперамента таборной цыганки? Где подсмотрела она, где научилась этим гибким, вкрадчивым движениям, этой властной, покоряющей надменности жеста и взгляда?
Лицо девушки пылало румянцем, чуть открылись в улыбке губы, а рыжие волосы, как золотое пламя, рассыпались и трепетали на плечах. Она была так хороша сейчас, в ней было столько жизни, столько внутреннего огня, что никто, даже красавица Галя Светлова — стань она рядом, — не смог бы сравниться с Лидой Векшей.
Марина, оторвавшись от плясуньи, взглянула в ту сторону, где на широком подоконнике устроилась Галя Светлова. Взглянула — и словно холодом пахнуло на нее. Галя сидела неподвижно, охватив руками колени, и казалось, она не видит ни пляски, ни оживленных девчоночьих лиц, не слышит звуков голосов, веселых возгласов: «Чаще, Векша, чаще!».
Тонкие брови Чайки были сведены в скорбном изломе, и глаза казались темными, пустыми провалами.
Такие лица Марина видела только в госпитале, когда, сдерживая рыдания, склонялась над распластанным, наполненным одной только болью, одним только страданием телом умирающего.
Лида все еще плясала, к ней присоединились еще трое… И все так же задорно звучал мотив «цыганочки», и все так же метались рыжие волосы Векши… Но Марине вдруг все это показалось не только ненужным, но даже кощунственным.
«Веселимся, пляску устроили… А чему радуемся, когда вокруг одно горе и слезы? Галя Светлова сейчас думает об отце, — безошибочно определила Марина, — и ей совсем не весело, потому что она старше и серьезнее других». Может быть, и Марине надо подумать о человеке, который сейчас, как и отец Галины, находится на фронте, на передовой, где нет ничего — ни солнца, ни неба, а только один свистящий, воющий, громыхающий ужас? Почему Марина не думает о нем? Неужели она не простила ему обиды? И не простит никогда? Но ведь говорят, что любовь все прощает… А может, она никогда и не любила Олега?