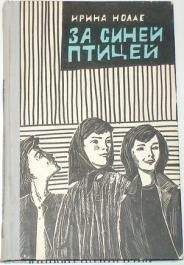— Сто пятьдесят нельзя, — решительно сказала Маша. — Надо сто два — сто три, не больше.
— Нет, надо процентов девяносто, — вмешалась Вартуш. — Никто не сможет в первый день дать норму, а эти наши и подавно.
— А остальные куда? Ну, Маша, и задали вы мне задачу! — Марина отодвинула лишние варежки. — Здесь их штук сорок осталось.
— Куда? — Маша призадумалась, потом глаза ее блеснули. — А вот куда, — она указала рукой на печку. — Еще ведь не топят. Мы их сейчас чин чинарем туда положим, а завтра у нас разгон будет. А то ведь понимаешь сама, что получится? Сегодня — девяносто семь процентов, а завтра что?
— Ладно, — Марина безнадежно махнула рукой, — прячь.
После отбоя Марина сидела на верхней ступеньке крыльца и ждала Машу, которая пошла в барак к Куликовой.
«Вот, — с горечью размышляла она, — вот тебе и очередное боевое крещение… А я представляла, что отсиживаюсь в окопах… Да тут только успевай обороняться. Они меня и читать упрашивали, и в контору спровадили все только для того, чтобы я ничего не заметила. Так и верно — ничего я не заметила: как они туда бегали, как эти варежки приносили… На глазах, можно сказать, вокруг пальца обвели».
Но все-таки Марина не была лишена чувства юмора и улыбнулась: «Здорово они все это обделали! И нечего сидеть и страдать. Как это Даша сказала: „Брось интеллигенцию разводить“. За девчонками замечаю, что у них от слез до смеха — одна минута, а сама-то хороша! Перед обедом чуть Мышку не стукнула, потом слезу пустила. А эту Нюрочку-то стоило бы проучить… Если бы Даша вовремя не вошла, то была бы у меня вторая крестница на лагпункте… Интересно, что бы сказал тогда капитан Белоненко?..».
За углом послышались сдержанные голоса. Кто-то остановился за углом барака.
— Одних сорочек ночных шелковых три дюжины в шифоньере лежало…
— С кружевами?
Марина узнала голоса. Это разговаривали Гусева и Соня Синельникова. Должно быть, возвращались после работы из столовой.
— А зачем столько много? — почтительно спросила Соня.
— У меня три меховых манто было: котиковое, беличье и кротовое.
Соня вздохнула — они стояли совсем рядом с крыльцом. Марину видеть не могли — лампочка на столбе не горела.
— Беличье… — с завистью повторила Соня. — Это сколько ж на него надо белок убить?
— Ну, не знаю… Может, пятьдесят, может, больше… Я этим не интересовалась.
— У меня тоже было пальто… Новое почти. С таким коричневым воротником шалью и манжетами. Красивое тоже было…
— Красивое… — Гусева мелко рассмеялась. — Какая ты… неотесанная, Сонька! Что там может быть красиво — какая-нибудь крашеная собака на воротнике. Вот если бы тебе показать, что у меня было! А знаешь, — Гусева понизила голос, — если бы мы сейчас очутились на воле, я бы тебе кое-что подарила, честное слово!
— А что у вас могло там остаться? Ни у кого сейчас ничего не осталось, все пропало.
— У кого — не осталось, а у кого, может, и прибавилось… Ну, иди отдыхай. Я тоже к себе пойду.
Марине хотелось окликнуть поднимающуюся на крыльцо Соню, но она раздумала: девчонка намоталась за день, пусть ложится спать.
Синельникова прошла мимо, так и не заметив Марину.
Прошло еще минут пять — десять. Маши не было. Марина поднялась и пошла в барак.
Тихо… Все спят. У стола сидит тетя Васена. Вяжет бесконечный «подзор». Где и когда ей понадобится это украшение?
Марина сняла ботинки и осторожно пробралась к своему месту. Проходя мимо койки Сони, она увидела, что девушка лежит на спине, закинув руки за голову. Глаза ее были открыты и неподвижно смотрели в потолок.
— Не спишь? — Марина нагнулась к ней.
Соня медленно перевела на нее глаза:
— Ты, бригадир? — Она повернулась и приподнялась на локте. — Не спится… Скажи, Мариша, какая это шуба — котиковая? Пестренькая, наверное, блестящая… Есть такие кошечки — пушистые…
«Вот оно что… Запали ей в душу россказни Гусевой…».
— Нет, Соня. Котиковые шубки черные. Мех короткий, блестящий. Очень дорогой мех.
— А еще какие шубы есть?
— Разные есть… Я, наверное, не все знаю.
Что-то тревожное было в глазах Сони, в напряженном ее лице, в самом голосе.
— А разве бывают такие брошки — одни бриллианты в них? Или, например, зачем человеку целая шкатулка колец, и сережек, и часиков золотых? Зачем они ему, если он их не носит?
— Да что ты, Соня! Что за странные мысли? Кольца, брошки… Выкинь ты все это из головы. — «Зачем это Гусевой понадобилось разжигать Соньку? Зачем раздразнивает она ее?».
— А об чем мне думать? — Соня вздохнула. — Об чем ни начнешь — все плохо получается. А тут — представляешь? — вся брошка, как есть, в бриллиантах… Повернешь — и светится… Это правда, Марина, что они светятся разными огнями? И еще рубашки ночные с лентами и все в кружевах.
— Перестань! — сердитым шепотом сказала Марина. — Наслушалась разной чепухи. Врет она тебе все, эта Гусева!
— А ты откуда знаешь, что Гусева?
— Я на крыльце сидела, все слышала.
— А может, и не врет? Может быть, та шкатулочка ее дожидается, пока она срок не закончит?
— Ну, а тебе что, если и дожидается? Узнала бы я, где эта шкатулка ее дожидается, — не увидела бы ее Гусева. Разве только во сне.
— Донесла бы? — испуганно выдохнула Соня.
— Донесла бы. Скотина она и спекулянтка! Не слушай ты ее, Соня. Ну, подумай, зачем тебе все эти ее рассказы? Ты молодая девушка, срок у тебя небольшой, выйдешь на волю…
— На волю выйду, а такой брошки, чтобы всеми цветами переливалась, мне до самой смерти не носить… Ну ладно… Иди, Мариша… Спокойного тебе сна.
Марина разделась и легла. Два раза она осторожно приподнималась и смотрела в ту сторону, где стояла койка Сони Синельниковой. Девушка лежала на спине с закинутыми за голову руками, и глаза ее были открыты.
Глава седьмая
Кто такой «птенчик»!
Эту записку Марина обнаружила, когда стала разбирать перед сном свою постель. В бараке было полутемно. Лампочка над столом мигала и горела вполнакала — на электростанции второй день что-то не ладилось.
Тетя Васена подняла на Марину сонные глаза, зевнула и сказала хриплым голосом:
— Машка велела разбудить, когда придешь. Где была?
— Начальница КВЧ вызывала.
— Приехала?
— Приехала.
— Ну, что она говорит — как там колонию, скоро закончат?
— Она мне про колонию ничего не говорила.
Марина поднесла ближе к свету записку и развернула ее.
«Уважаемая Марина и милая детка! Стех пор как вы паявились здесь я патерял всякий покой я влюбился ввас и хачу быть с вами блиским другом. Даю срока падумать адин день ажидаю всуботу т. е. завтра после атбою всу шилки где были ложки. Предупреждаю если загардитесь и непридете всушилку на свиданья то дело ваше будет хана. Пожалейте сваю красоту а может и молодую жизнь и абдумайте дело. Извесный всем а вам пака неизвесный Леха Птенчик».
Марина повернула записку. «Какая чепуха! Еще какой-то Птенчик появился — мало Мишки-парикмахера!».
— Тетя Васена, кто приходил в барак из посторонних?
— Какие тебе здесь посторонние? Все свои. Комендант приходил, дежурная надзорка приходила… Ходют и ходют, спать не дают. Замечание сделали: почему девчонки после отбою шушукаются.
— Кто шушукается?
— Да вот, принцесса наша, Галька… Да еще Сонька, да эта твоя пресвятая троица.
— Ну и пусть шушукаются. Никому они не мешают. А кто еще был?
— Еще-то кто? — Васена закрыла маленькие глазки и засопела.
— Ты что, заснула? Кто еще приходил — из других бараков?..
— Вот обожди, припоминаю… Это ты спрашиваешь, кто сегодня был?
— Ну, ясно — не вчера.
— Лизавета была.
— Какая Лизавета?
— Будто не знаешь — крестница твоя. Ну, которую ты в третьем бараке по морде окрестила. Теперь ее так все и дразнят: «бригадирова крестница».
— Что ей тут было нужно?
— Про бога поговорить было нужно. — Васена вдруг оживилась. — Интересно про бога рассказывала. Как у них молются. Дырку в стене провертят и перед тою дыркой молются. Чудно! Ни попов, ни церквей — одни дырки в стенах. В дырки те бог с ними разговаривает и разные приказы дает. Лизавете Максютиной он велел телятник запалить. — Васена хихикнула. — Вот те и бог — чистый уголовник! А сперва он ей велел амбар с зерном спалить, так Максютиха ему: «За такое дело десять лет припаяют». Ну, тогда он согласился на телятник… Дык не получилось у них ничего — колхозники набежали, чуть Максютиху на месте не прихлопнули. Спасибо, милиционер прибег, отстоял. До суда, говорит, никакого права не имеете самочинствовать. А судили-то этих дырочников человек пять. Не за дырки, ясное дело, — кому они мешают? — а за уголовщину.