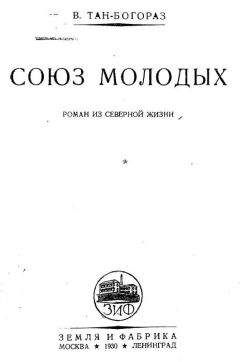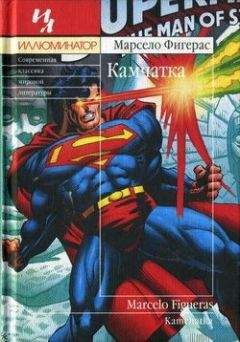— Я допою свою песню, — сказал он просто. И начал все тот же напев, что недавно при встрече отряда. Он, собственно, не пел, а говорил нараспев старую любимую былину.
Якунин худоубивающий, в белоблестящем панцыре, шагает, как белая чайка.
Отчего худоубивающий?
Оттого: — чукотских мужчин пополам разрубает железным топором.
Женщин разрывает надвое, как сушеную рыбу…
Пришел к русскому царю.
Привез трое саней, груженых чукотскими шапками.
— Всех детей Беломорской Жены перебил я.
— Не верь, Якунин!.
— Еще много остроклювых пташек прячется на тундре в осоке…
Вышел Якунин вперед. Машет копьем.
Прыгает высоко, как вершина дерева.
Железный котел на его голове, две дыры вместо глаз.
Мальчик Кеургин выстрелил стрелкой из китового уса.
Попал ему в глаз.
О ты, худоубивающий! У нас нет топоров из железа.
Но на малом огне, как рыбу, изжарим тебя…
Стукнули Якунина дубиной по железному горшку.
И воины в панцырях вышли вперед и топнули ногой в свирепом восхищении и тряхнули железными юбками.
— Что скажете, люди? — спросил негромко Кека.
Но для ответа певцу вышел высокий Лилет. Он был вдвое старше задорного Ваипа, и на верхней губе его чернела полоска усов, признак совершенной зрелости, умственной, телесной, семейной и хозяйственной. Он был, одним словам, «сам с усам».
Он поглядел с полупрезрением на молодого певуна, но вместо речей и доказательств ответил и сам другим речитативом. То была песня о братстве, спетая впервые тундренными удальцами тоже давно, но гораздо позднее Павлуцкого. Ибо с этой песней чукчи помирились и даже побратались с казаками и начали обильную и соблазнительную торговлю.
Кто напоит меня чаем душистым и крепким,
до-сыта накурит пахучим и черным табаком,
жидкого пламени выпить мне даст, рождая веселье?
Это мой милый земляк, русский двоюродный брат.
Эту песню пропели чукотские воины в 1789 году исправнику Баннеру на первой чукотской ярмарке, снова испробовав русских товаров после полувекового перерыва. Теперь тоже был перерыв и не было табаку.
И дядя Ваипа, Кеуль, широкий и черный, как медведь, зажмурился сладко и даже простонал:
— Табачок!.. о, табачная горечь, сладкая, как сахар!..
— Люди, решайте, — напомнил собранию Кека.
И Чанто, почтенный хозяин соседнего стойбища, покачал головой и изрек:
— Спокойных не троньте. Сели в соседях, так пусть и сидят.
Счастливую неделю провели «худоубивающие» пришельцы в своем вольном лагере по соседству с чукчами. Лучшего лакомого мяса было вдоволь. Даже усталые собаки отдохнули и разъелись. Русские олени паслись на моховище, вместе с чукотскими стадами. С утра до вечера шла бойкая торговля. Чукчи привозили готовую одежду, пышную и черную, дорогие меха, и продавали их за бесценок. Они вытащили из мешков даже драгоценнейшие товары — патоку в бутылках и конфекты, перекупленные через несколько рук от американских торговцев в Беринговом проливе. Жевательный табак американский встретился с курительным русским. Жгучий корабельный ром — с охотским самогоном, вонючим и сногсшибательным.
Еще одно удобство. Чукотские женщины были красивы и рослы и, по старому обычаю, чужеземцы получали права гостеприимства на-ряду с приезжими чукотскими соседями из более далеких стойбищ. К концу недели каждый солдат и денщик имел своего особого дружка с женой или сестрой, и при этом дружке он состоял на правах официального друга дома.
Ламуты и ламутки отошли на задний план. К ним чукчи отнеслись с пренебрежением и плохо их кормили. И главная обида — их не приглашали на попойки. Они замолчали и надулись, и на шестое утро Карпатый и Михаев обнаружили, что ламуты ушли совсем своим скарбом и немногими оленями. Авилов обругал их трехэтажным словом и велел посмотреть ламутскую дорогу. Они ушли на северо-запад к реке Колыме, опережая «худоубивающих» на будущем пути.
Еще через день произошла крупная размолвка с чукчами. Ваип, Лилет и Кеуль, трое самых заметных удальцов на стойбище Кеки, пришли к русским с особо торжественным видом. Русские жили под собственным кровом. Они поставили палатки или просто заплели шалаши из ползучего кедра. Палатка Авилова стояла впереди, как подобает начальнику. Чукчи вошли, поклонились и положили на землю три дорогие шкуры: пеструю рысь, белого северного волка и пышного бобра, перекупленного у американцев.
Они сложили их к ногам Варвары Алексеевны и степенно сказали:
— Приглашаем на вечернюю пляску.
Вместе с Авиловым в палатке были оба офицера, Мухин и Дулебов. Они только ахнули. Этот чукотский обычай был им известен. Ибо в начале недели каждый из них плясал эту пляску с чукотской партнершей, предварительно сложив к ее ногам жертвенно-любовную постель. Дама наутро постель забирала себе. На праздниках иные красавицы заметно богатели дорогими мехами.
За неимением мехов русские клали кошемки. Чукотские любовные дары были богаче и пышнее.
Авилов молчал. Но лицо его наливалось густою коричневой краской.
— Ступайте прочь, — сказал он искусителям, — мерзавцы!
Чукотский язык беден бранью. И слово «меркичиргин» — мерзавец, в одноэтажности своей является вполне многоэтажным.
— Наших брали, — сказали чукчи с каменной твердостью. Ссориться они не желали, но хотели настоять на своем.
— Не я, — они, — указал Авилов презрительно на братьев офицеров.
— Родня твоя.
— Собачья, — отозвался Авилов с презрением. Разговор велся по-чукотски и офицеры не понимали слов. Но они понимали, в чем дело и разбирали интонацию Авилова. Они хмурились тоже и упорно молчали. Спорить с Авиловым не хотелось ни одному из них.
— Вы даже собаки, — перешел в наступление Авилов. — Ступайте прочь отсюда!
Чукотские первые любовники только головами тряхнули. Это было совсем несправедливо. Собаками издревле назывались у чукоч русские, всех званий и всех партий, вместе с их лающей скотиной.
Кеуль, самый старший из трех, начал хмуриться.
— Знаешь обычай, — сказал он сердито, — я вижу, ты здешний, ты знаешь: голову за голову, женщину за женщину. А братья по женам до смерти кровавой на одном берегу.
Такие переменные и сложные браки считаются у чукоч священными и нарушение взаимности принимается за кровную обиду. Но Авилов промолвил насмешливо:
— Пускай хоть и до смерти… до вашей!
— Сами возьмем! — крикнул запальчиво высокий Лилет и дерзко сделал шаг по направлению к женщине. Авилов протянул руку и схватил его за шиворот. Вышла бы, наверное, резня. Но, Варвара Алексеевна ступила вперед и наступила на черную шкуру.
— Сама пойду, — сказала она истерическим тоном. — Плясать, так плясать. Я спляшу, а они пусть посмотрят.
— Я тебе спляшу, — сердито отозвался Авилов, сжимая кулаки. — Шлюха такая.
— Шлюха, так шлюха, — сказала Варвара без злости. — А плясать — я плясала довольно. В ресторане на столах, пред офицерами. А, бывало, под столами, и даже и под офицерами… Музыка, играйте!.. Я буду плясать!..
В этот вечер в большом шатре у богато-оленного Кеки, в наружном помещении, при свете большого костра, Варвара Алексеевна Словцова плясала на разостланных кожах, лощеных, как паркет. Плясала она свой собственный танец, одна, без кавалера, но весьма убедительно. Начала круто, фокстротом, проскакала матчишем, а закончила русскою пляской. На ней было красное платье и красные сафьянные чувяки на ногах. И ее золотистые волосы были распущены на плечи. И когда ее статная фигура прыгала в стороны, за нею взметывался красный хвост и она походила на кобылу, красную, с рыжим хвостом. Ее тяжелый танец удивительно шел к ее крупным, но все еще стройным формам. И время от времени в приливе удали она вскрикивала по-цыгански: га!..
Чукчи смотрели на нее, как зачарованные. Их глазам, привычным к бесформенным мехам их собственных женщин, эта буйная русачка казалась, как голая. И в то же время она вся была одета огненным платьем своим, огненными волосами, одета огнем. И молодые удальцы от оленьего стада вспоминали предание о Йигине, Солнечной жене, рожденной от медных лучей дневного светила и столь прекрасной, что при одном взгляде на нее земные мужчины падали от сладострастия, умирали от трясения хребта.
— Пить, — сказала она коротко, утирая пот с лица.
Лилет поднес ей серебряный ковшик, налитый рыжим напитком, купленным от американцев. Напиток был лютой крепости и он подходил по тонам к ее волосам и фигуре.
Она стала пить, медленно, но без отдыха и выпила ковш. Потом пошатнулась на месте и вышла из шатра, направляясь к своей собственной палатке.
— Не надо, пусть идет, — сказал черноусый Лилет, почти со страхом. Но потом обратился к Авилову. — Пускай по-твоему. Но если не через бабу, так ты сам должен с нами побрататься.