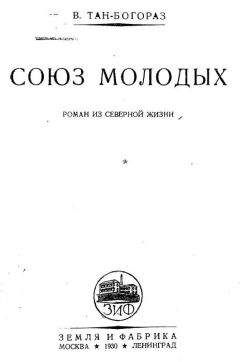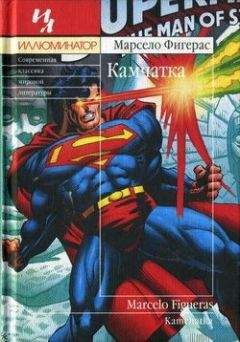— Шш! — лыжи шинели, и убегавшая фигура теперь вырастала и словно приближалась. Полковник Авилов, наконец, догонял беглеца. Время от времени он срывал ружье с плеча и стрелял, по-прежнему не целясь, да и невозможно целиться на таком быстром бегу. Но он хотел напугать беглеца. А кроме того какая-нибудь шальная пуля могла как-нибудь все же попасть. Новгородов отстал безнадежно. Уже было так, что и сзади Авилова чернела такая же узкая полоска человека, как и впереди. Другие солдаты были как уколы на белом покрове реки.
При последнем выстреле Авилова беглец, наконец, повернул поперек, снял с плеча малопульку и выстрелил в Авилова. Неожидавший этого Авилов тоже свернул поперек и чуть не опрокинулся. При меткости колымских стрелков он мог бы почитать себя убитым. Но выстрела не было. Застреливши Авилова, беглец бы ушел невозбранно. Другие бы его не догнали. Но кремневка не хотела стрелять.
Быстро, как молния, у Авилова мелькнуло в уме: в капсюле засечка, не прочистишь, так не выстрелишь. Кремневые ружья после двух-трех выстрелов нередко угощают охотника такими сюрпризами. На охоте капсюль прочищают особенным шилом. Но Микша ведь был не охотник, а добыча. И у него не было времени.
«Живого возьму», — торжествуя, подумал Авилов.
— И-го-го-го, — заржал он, как веселый жеребец, и не стал беспокоить винтовку. Прямо в упор он помчался на затравленного зверя, как огромный военный снаряд. Берестяный не стал убегать. Он вынул из-за пояса рожок и подсыпал на полку блестящего крупного пороху. Порох этот был американский. Его доставали через чукоч с Берингова пролива. Поречане говорили, что этот американский порох совсем не годится для их узкоствольных кремневок.
Еще раз выстрелил Берестяный, чуть не в грудь полковнику, страшному воину с далекой Руси. Вспыхнуло пламя на полке, шикнуло и сгасло. Кремневка стрелять не хотела. Авилов уже набегал. Он показался Берестяному высоким, как сосна, широким, как изба. Он уже заслонял от его глаз ясное солнце и весь белый свет.
Берестяный брякнул о землю своим бесполезным ружьем, оборвал свои лыжи и вскочил на дорогу свободными ногами и вдруг завизжав, как лисица, бросился навстречу врагу. Он даже не выдернул из-за пояса древнейшего оружия — ножа. С голыми руками, как был, по-звериному, он бросился на огромного противника, схватил его когтями за шею и зарылся в плечо разгоряченным лицом, стараясь запустить свои острые зубы сквозь мокрую одежду в живое и тугое человеческое мясо.
Авилов отодрал его от груди, как щенка или кошку, и поставил пред собой на расстоянии руки.
— Чей ты, — спросил он сурово, — и где ваша заимка?
Микша раскрыл рот и завизжал. И в голосе его не было человеческих слов. Он трепетал и изгибался в крепкой руке Авилова, как лисенок, закушенный собакой.
— Бей, не боюсь, — закричал он, наконец, — русскую кровь проливаете.
Формально он был не прав. Первую русскую кровь на реке Колыме пролили именно его собственные меткие пульки. Теперь пришел черед пролиться и его крови.
Поровнялся Новгородов. Свернул с полозницы, проехал вплотную мимо Авилова с пленником и, выдернув нож из-за пояса, ударил Микшу под ребро, так же хладнокровно и точно, как убивают оленей. Микша подскочил и повис, как тряпка, у Авилова в руке. Удар был нанесен прямо в сердце.
— Сволочь, зачем? — крикнул Авилов, вне себя от изумления и гнева.
— Они сволочи, — цыркнул Новгородов ядовитым голоском. — Надо их душить до последнего, сукиных гадов таких.
— Гадина ты, — сказал с отвращением Авилов.
— Меня самого полоснул на Алдане такой же полуродок, — объяснил Новгородов. — Квиты теперь. Я, видно, лучше пластаю. Волк однажды хватает, да метко берет.
Авилов пожал плечами.
— Хотя бы расспросили, где их заимка проклятая.
Новгородов презрительно хмыкнул.
— Сами найдем. Теперь на следу. Дорога-то вон… Да ты и сам, чай, знаешь.
Авилов даже вздрогнул, словно толкнули его. Он, действительно, узнавал знакомые места. Вот там был Евсеевский остров, Отцова тоня. На этой тоне они неводили лет двадцать назад, в первый год его политической ссылки.
Набежали другие лыжники и с любопытством обступили убитого.
— Что смотреть, — жестко сказал Авилов. — Убили — так убили.
И он слегка потрогал носком тело убитого.
— Зарыть? — спросил Карпатый.
— Не время, — сказал Авилов. — Идем на Евсеево.
Так оставили белые первое тело колымского воина, убитого ими, без погребения, без четья-петья могильного, на пожор горностаям и лисицам.
Евсеево было за островом в протоке, верстах в четырех. Жители слышали выстрелы. Поднялись суета и разгром. Женщины в безумном страхе хватали детей и убегали в лес, в чащу, рискуя замерзнуть без крова. Мужчины грузили на собак жалкую рухлядь, запасы и уезжали вниз по той же наезженной дороге.
Белые видели их на реке, но не стали преследовать. Им не терпелось добраться до домов, до русского уюта. Но на жилом угорье, над рекой, было тихо. Копошились облезлые собаки, которых за старостью никто не запрег. И из каждого дома вышло на встречу по паре, старик и старуха. Они не хотели уехать и бросить: «житье-бытье, имение». И думалось так, что белые — беглые, старых не тронут.
Передний старик был Ивака Берестяный. Белые только что убили на реке его старшего внука. Черкес подошел и ударил его прикладом по шее, однако не больно, скорее для примера.
— Квартиру, еду, — крикнул он грозно.
Он был интендант, квартирмейстер, даже финансист отряда карателей. Он реквизировал, грозился, при случае даже расстреливал. Впрочем, это последнее дело не требует уменья, а только охоты.
— Все подавайте! — крикнул еще раз интендант.
Старик только рукою повел: все, дескать, ваше.
В эту ночь белые каратели, наконец, поели и вздохнули по-человечески. В двух Евсеевских жильях было четыре избы, две зимних, две летних, но прекрасный колымский чувал, деревянный, помазанный глиной камин, был во всех четырех. Затопили веселый огонь, обогрелись и разделись, сварили похлебку из рыбы с мучною и масляной забелкой. И те же старухи стали таскать из амбаров своеземную еду, соленые пупки, брюшка от омуля и нельмы, мороженную печень налима, копченые гусиные полотки.
Масаков, как якут, имел недалеко у родичей по травяным озерам коров. Оттого чай пили с мороженными пенками, снятыми с густого варенца. Офицерам даже поднесли деревянное блюдо керчаку, густо взбитых сливок, вместе с растертыми ягодами божественной княженики. Это, действительно, было княжеское блюдо, подходившее и почетному званию карательных вождей. Хозяева в заимках были позапасливее городской гольтепы. На далекой Колыме были такие же город и деревня, как и в Московской губернии. Город реквизировал и грабил и пухнул от голоду. Ограбляемая деревня ела в три горла и пухла от сытости.
Спирт лился щедрою струей. Это было первое завоевание белых на реке Колыме. Угостили стариков и старух и каких-то детей, которые выползли к вечеру из тайных прикрытий. Но женщины не возвращались. Офицеры заставляли плясать подгулявших старух, и одна покорилась и пошла выделывать русскую. Впрочем, скорее это была пляска смерти, чем русская.
Однако Карпатый, выпивавший с офицерами, пришел от этой пляски в неистовый восторг и с размаху стукнул кулаком по столу. Старуха подскочила, изругалась нехорошим словом, потом с болезненным визгом схватила топор с лавки и пустила через комнату в голову Карпатому. Попасть не попала, однако топор вонзился в еловую притолоку и остался торчать.
Чуть не зарубили офицеры визжавшую старуху. Но вступился Авилов и сказал, что и это болезнь меряк и что колымских старух безнаказанно трогать нельзя.
Мерячки вообще способны на капризы. То отвечают на окрик покорным исполнением приказа, даже самого нелепого и грязного, а то реагируют камнем, ножом, топором. И все это внезапно и безвольно.
Веселье оборвалось. Офицеры выпивали и дальше и впали в чувствительность.
— Отделимся от России, — предложил мечтательно Дулебов, — чорт ее возьми, объявим великое княжество. Как это у красных говорится, автономия, что ли? Разведем и себе такую антимонию. Для каждого по княжеству, Авилов в великих князьях, а мы себе в малых князьках, по уделам. У каждого будет свой собственный удельный департамент.
Дулебов не был силен в истории и смешивал княжеские уделы с царским удельным ведомством и автономию с антимонией.
В эту ночь Карпатый и Михаев лишили обеих старух их старческой невинности. Старухи покорились. Они были так испуганы и сбиты с толку, что если бы даже их резали, они бы приняли это как неизбежное и молча.
После возвращения максолов с лебединой охоты, Митькино царство небесное держалось в Колымске еще два месяца. Но при первых более прямых известиях о приближении врагов в городе вышла сперва паника, а потом даже бунт. Белые — беглые с ружьями, с бомбами, с военным начальством наводили смертельную оторопь на самых удалых. Прибежали ламуты, те самые, из плена, и сказали: Идут. Начальник идет впереди, высокий, как лесина. Голос такой, что люди от него глохнут, а звери от него дохнут. И с ними какая-то девка или баба, баская[37], с рыжей косой, как будто заря-зореница.