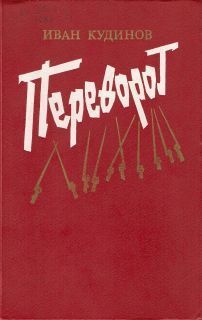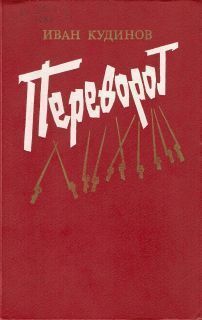— Наш разговор будет передан Краесовету и губсовету?
— Наш разговор будет опубликован в советской газете «Бийская правда». Что вы еще имеете добавить?
Огородников встретил вышедший из Бийска в Шубинку красногвардейский отряд где-то на полпути, прискакав в сопровождении четырех всадников. Михайлов, увидев его, обрадовался и возмутился одновременно:
— Что это за выездка? Скачешь, как на параде. Да вас, как куропаток, перестреляют — и глазом не успеешь моргнуть.
— Такого мы не допустим, товарищ председатель реввоенсовета. Основные наши силы неподалеку, — махнул рукой вправо. — Оттуда все видно, как на ладони… Муха незаметно не пролетит.
— Ладно, ладно… Пролетела уже. Что же ты, командир носишься как рядовой разведчик, оставив отряд?
— Соскучился, Семен Илларионович. Дай, думаю, встречу самолично. Вон и начальника милиции давно не видел, — кивнул Нечаеву. — Тоже редкий гость в наших краях… Что слабо? — увидев, как несколько красногвардейцев с уханьем и смехом толкали в гору автомобиль, поинтересовался. — Не тянет?
— Да вот, — ответил Михайлов, — по ровной дороге идет неплохо, а в гору не хватает духу. Ну, что там, в Шубинке?
— Шубинка есть Шубинка, — загадочно проговорил Огородников. — Как говорится, на две руки: на левую и на правую… Так что смотреть надо в оба. Нам с вами идти?
— Нет, оставайтесь пока здесь. Подойдете позже.
— Понятно, — кивнул Огородников. — Эй, ребята, может, моего пегана впряжете? — крикнул красногвардейцам, все еще толкавшим автомобиль на крутяк. — Он враз выдернет вашу телегу…
— Твоего пегана впору самого тянуть.
Автомобиль в это время, прокатив юзом метра три, чихнул громко и загудел, задрожал всем своим металлическим нутром. Пеган испуганно отпрянул, едва не сбросив седока. Водитель автомобиля захохотал, помахав кожаными перчатками. Михайлов и Нечаев сели в машину, брезентовый верх которой был опущен, сдвинут назад, и два пулеметных ствола торчали над ним, как два указательных пальца… Автомобиль фыркнул, обдав стоявших сбоку людей вонючим дымом, и покатил по дороге.
Огородников пустил своего пегана с места в намет, разом догнав и обогнав натужно гудевший и лихорадочно дребезжавший на поворотах автомобиль.
— Что, слабо? — взмахнул рукой, как саблей, и засмеялся. — Слабо!
Вскоре его и след простыл.
Когда приехали в Шубинку, Михайлов распорядился сколотить деревянные подмостки и установить посреди села, на площади, примыкающей к церковной ограде. На них положили убитого красногвардейца, прикрыв изуродованное лицо белой холстиной, и два караульных встали подле с винтовками к ноге, хмуро и настороженно поглядывая на подходивших людей и тихо, вполголоса переговариваясь:
— Поди ж ты, какая жара, прямо пекло…
— И то сказать, сушь несусветная.
И хотя труп лежал под открытым небом, на свежем воздухе, запах от него шел непереносимо тяжелый, и караульные, чтобы отвлечься, старались не смотреть на него и разговоры вели посторонние… Но куда же денешься, если вот он, рядом!..
— Можа, зря его тут выставили? — сказал один караульный другому. — Закопать бы его, как полагается… а то ж вроде не по-христиански.
— Коли выставили, стало быть, надо, — возразил другой. — Нехай народ поглядит.
— Дак смердит же… нехорошо.
— Ох-ха! А дома, поди, ждуть мужика…
— Ждуть, а то как же… Нас вот с тобой тоже небось ждуть?
Люди подходили, останавливались поодаль, а кто и поближе и, постояв, молча удалялись, как бы уступая место другим.
Вороны кружили над церковной оградой, потом уселись на вершину старого тополя. Подул ветерок, взвинтив на дороге пыль, тронул покрывало, задрав уголок и обнажив светлые спутанные волосы и белый, как холстина, лоб красногвардейца… Один из караульных поправил покрывало, но тут же новый порыв подхватил его и задрал еще больше. Тогда караульный поднял из-под ног обломок камня и положил на уголок помоста, натянув холстину. И отвернулся, замер с винтовкой к ноге.
Вороны бесшумно снялись с тополя и улетели за реку.
Люди все подходили и подходили, собирались кучками. Тревожно было, душно. Ветер стих. И сизой морочью, словно пеплом, затянуто небо. Солнце едва проглядывало, лишь по горизонту багрово отсвечивали редкие перистые облака, и сам горизонт, как бы отсеченный от земли темной полосой леса, горячо плавился и кровенел…
— Нехорошее небо, — сказал караульный. Другой подтвердил:
— Смурное. Грозу, должно, натянет. Часа через два караульные сменились. Близился вечер. Тревога нарастала.
Двое парламентеров были отправлены в Улалу для переговоров с каракорумцами. Что выйдет из этих переговоров и что будет с парламентерами — никто не знал. Михайлов был против этих переговоров и ни за что бы на них не пошел, если бы не распоряжение председателя совдепа Двойных.
Деревня притихла.
По улице, к дому, где разместился штаб, красногвардейцы провели четырех арестованных. Среди них был священник, маленький, жалкий какой-то, в длинной рясе, волочившейся чуть ли не по земле. Рядом с ним шел Корней Лубянкин, заложив за спину тяжелые, набрякшие руки Проходя мимо подмостков, на которых лежал убитый каракорумцами красногвардеец, конвоиры и конвоируемые замедлили шаг, и священник, повернув голову, торопливо перекрестился… Лубянкин же прошел мимо, не расцепив рук и не повернув головы.
Мужиков обвиняли в том, что во время нападения каракорумцев они оказали им содействие — а значит, выступили против Советской власти. Убитый красногвардеец тому доказательство. Мужики вины не признавали, твердили одно:
— Мы не убивали.
— А кто убивал? Кто известил каракорумцев о том, что в Шубинке находятся красногвардейцы? Кто? — Михайлов допрашивал строго, скулы его набрякли, серые глаза сузились и потемнели. — Откуда у вас взялось оружие? Отвечайте.
— Какое там оружие… дробовики.
— А дробовики, по-вашему, не оружие? Или они у вас были солью заряжены?
Мужики сжились под его взглядом, отвечали сбивчиво, путано, добиться от них толком ничего так и не удалось.
— Запираются, вижу по глазам, — сказал Михайлов и стукнул слегка кулаком по столу. — Ну, я их заставлю говорить!
Кроме него и начальника милиции Нечаева, в небольшой горенке был еще член ревкома Селиванов, худощавый и молчаливый человек, лет сорока. Вопросов он почти не задавал, сидел и слушал, наблюдая со стороны. Сейчас же, когда арестованных увели и они остались втроем, Селиванов высказал сомнение:
— А может, не запираются? Может, им действительно нечего сказать?
— Как это нечего? — вскинулся Михайлов. — Ружьями размахивать они мастаки, а чистосердечно во всем признаться у них духу не хватает.
— Так ведь ружьями-то они размахивали, как выяснилось, не в момент перестрелки с каракорумцами, — возразил Селиванов, — а когда красногвардейцы пытались у них забрать хлеб…
— Не забрать, а реквизировать излишки, — поправил Нечаев и тем самым как бы определил свое отношение к этому неожиданному разногласию. — А мужики, по-моему, все-таки запираются. Надо им развязать языки.
— Каким же образом? Нечаев помедлил:
— Припугнуть их… расстрелом.
— Да вы что, в своем уме? — возмутился Селиванов.
— Я-то в своем.
— Это же незаконно.
— Законы революции, товарищ Селиванов, не исключают суровости.
— Но не жестокости.
— Если надо — и жестокости.
— Нет. Законы революции — это, прежде всего, справедливость. А вы предлагаете методы шантажа и запугивания. Разве вы это не понимаете?
— Понимаем, — хмуро кивнул Михайлов и еще раз кивнул. — Понимаем. А вы понимаете, что в момент, когда Советской власти грозит смертельная опасность, излишняя мягкость неуместна и даже вредна. Понимаете?
Последним допрашивали отца Игнатия. Он сидел, опустив голову, но отвечал на вопросы твердо и внятно, не выказывая растерянности.
— Давно, святой отец, в здешнем приходе служите?
— А с того самого лета, когда в Шубинке возвели божий храм.
— Когда ж его возвели?
— Почитай, лет двадцать тому.
— Так. А скажи, святой отец, каким образом каракорумцам стало известно о нахождении в Шубинке красногвардейцев?
— Мне сие неведомо.
— Может, с неба свалилось на них это известие?
— На все божья воля…
— А ваши действия тоже были продиктованы божьей волей, когда вы ударили в колокола? Что вас побудило к этому?
— Страх, только страх, сын мой. Сиречь все произошло от великой растерянности… Истинно говорю.
— Чего же вы напугались?
— Невинного смертоубийства.
— Невинного? — жестко посмотрел на него Михайлов. — И слова-то у тебя, гражданин батюшка, обтекаемые, как и ты сам. Что можешь еще добавить к сказанному?