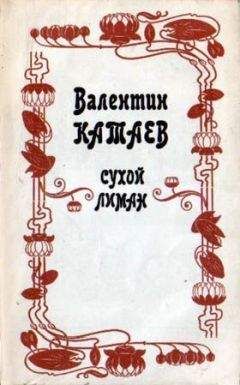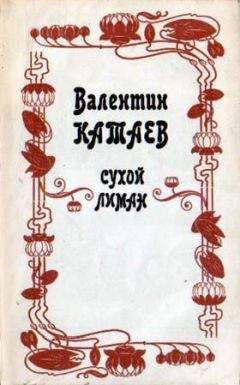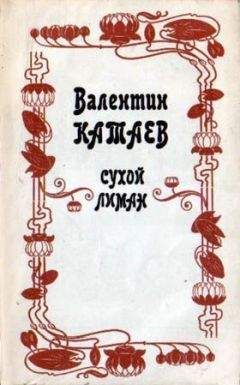Иногда до глубокой ночи в нашей орудийной землянке чадила керосиновая лампочка без стекла, копоть щипала глаза, в густом воздухе топор можно повесить — и батарейцы, затаив дыхание, слушали назидательный голос грамотея, который почти по складам читал им всю эту чепуху.
Я, считая своим долгом «сеять разумное, доброе, вечное», написал отцу, чтобы он прислал мне какую-нибудь книгу Льва Толстого, и, получив «Анну Каренину», начал читать солдатам вслух этот роман. Солдаты слушали его, затаив дыхание, как, впрочем, и все предыдущие книжки, причем больше всех им понравился Стива Облонский, его они весьма одобряли, а что касается Анны Карениной, то она была единогласно названа шлюхой.
Разумное, доброе, вечное мои товарищи по батарее воспринимали весьма своеобразно.
Вообще-то грамотных в батарее оказалось больше, чем неграмотных. Неграмотных всего трое: мой друг Прокоша Колыхаев, цыган из города Ананьева по фамилии Улиер и огромный, как медведь, но по-детски добрый и даже ласковый, со щербатыми зубами сибиряк Горбунов откуда-то с берегов Байкала.
Первым научился грамоте Колыхаев. Он получал через каждые два дня письма от своей обожаемой, как он выражался, благоверной и благочестивой супруги Нины, в которую до сих пор был влюблен и втайне страдал от вынужденной разлуки. Его угнетала необходимость читать ее письма и отвечать на них. А так как в письмах содержались откровенно любовные, а также семейные секреты, то Колыхаев пытался сам их читать, а иногда обращался за помощью ко мне. А уж ответ приходилось писать кому-нибудь из грамотеев под его диктовку, например столяру Попленко, и это Колыхаева очень стесняло.
Потом Колыхаеву пришла дерзкая мысль написать жене письмо самому, не прибегая ни к чьей помощи. Попробовал. Забился в угол землянки, достал из вещевого мешка заветную стеариновую свечу, которую очень берег на всякий случай, зажег ее, прилепил к выступу мазаной печки и развернул последнее письмо своей «благоверной, благочестивой и сильно грамотной» супруги Нины. Он изучил его детально и всесторонне, а потом «позычил» у меня лист почтовой бумаги, приладил его к какой-то дощечке и стал что-то царапать химическим карандашом, время от времени обильно его обслюнивая, отчего губы его стали лиловыми.
Он действовал бесхитростно: переделывал письмо своей супруги, обращенное к нему, мужчине, применительно к ней, к женскому роду. Жена писала «дорогой Прокоша» — значит, следовало написать почти то же самое, но только заменить слово «Прокоша» словом «Нина».
«Дорогой Нина», — вывел он крупными буквами, так называемыми воробьями. Дня через два письмо было готово и отослано. Благоверная Нина, конечно, ничего не поняла, но любящим сердцем угадала, что хотел написать ее дорогой супруг Прокоша. С тех пор Колыхаев писал жене сам, в крайних случаях советуясь со мной, напрактиковался и стал писать весьма недурно.
Потом под моим руководством научился писать сибиряк Горбунов. Начал он писать как-то сразу, хотя и с ошибками, но, в общем, толково. У него появилась мечта стать вполне грамотным, и я обещал летом научить его как следует писать и читать, а он за это помогал мне стирать белье а научил пилить и колоть дрова.
Цыган Улиер с черно-синей бородой и кудрявой шевелюрой цвета ежевики тоже брал у меня уроки грамоты и даже пытался писать самостоятельно, но ничего у него не вышло. Он был чудесный, добрый, хороший человек, но уж очень неразвитый от природы. Одно письмо жене своей в город Ананьев он писал месяца три, всю зиму, да так и не дописал.
За пять верст от батареи, в тылу, в деревушке Бялы открылась лавочка земского союза. В ней продавались белые булки, сало, табак, рафинад, печенье «Мария» и «Альберт». Когда становилось известно, что лавочка открыта, орудийная прислуга приходила в волнение. Сейчас же снаряжались два-три человека за покупками. Деньжата у солдат водились. Ведь мы получали денежное довольствие. Канонир получал пятьдесят копеек в месяц, бомбардир — семьдесят пять, младший фейерверкер — рубль десять копеек. У кого был Георгиевский крест, тот, кроме того, получал в месяц три рубля.
Были также среди солдат картежники, игравшие на деньги, а у картежников, как известно, всегда то пусто, то густо, но чаще всего густо.
Мой взводный фейерверкер Чигринский, о котором я уже упоминал, был крупный картежник. Когда позволяла обстановка, он ходил куда-то в пехоту, где велась крупная Игра в «очко» и «железку». Иногда он возвращался в выигрыше. У него всегда имелось в наличности рублей десять — сумма для нас фантастическая.
Однако впоследствии я понял, что его исчезновения из батареи, хождение в пехоту и в соседние артиллерийские дивизионы имели двойную цель: во-первых, игру в карты, а во-вторых, еще что-то гораздо более значительное. Я думаю, игра в карты являлась только прикрытием тайной, подпольной политической деятельности. В чем заключалась эта деятельность, я тогда совсем не понимал, но чувствовал в ней что-то скрытно революционное.
Однажды я случайно услышал, как, дежуря по батарее и расхаживая по линейке вдоль орудий, красавец Чигринский мурлыкал про себя: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода — вот наш девиз боевой». Мотив и слова были мне до сих пор неизвестны. Песня была не общеизвестная солдатская, не народная, а какая-то совсем другая…
…Лавочка представляла обыкновенную белорусскую халупу, разделенную на две части. В одной помещалась собственно лавочка, а в другой жила заведующая лавочкой сестрица. Лавочка обыкновенно открывалась в одиннадцать часов утра, так как земсоюзовская сестрица любила поспать в полное свое удовольствие. Но уже с девяти часов у двери Лавочки, на которой висел амбарный замок, собирается длинная очередь, именуемая по-армейски затылок. Кого только нет в этом затылке: саперы, артиллеристы, пехотинцы, санитары, фельдшеры, даже однажды появился мортир Черноморского флота, прикомандированный к пехоте вместе со своей двухдюймовой морской скорострельной пушечной системой Гочкиса с деревянным прикладом, из которой он палил по немцам с самого близкого расстояния. Пушечка эта была снята с какого-то военного корабля.
…Затылок шумит, волнуется, в морозном воздухе пахнет махоркой. Здесь особенно заметна работа солдатского телеграфа.
Из уст в уста передаются самые последние новости и слухи — не только фронтовые, но также и тыловые, политические, подчас зловещие: насчет воровства в интендантстве, насчет полковника Мясоедова, повешенного за шпионаж и измену, насчет сибирского мужика Распутина, хозяйничающего в доме Романовых, как у себя в избе, насчет голодающего народа, насчет лучших земель, захваченных кулаками и помещиками, насчет неизбежного военного поражения и скорого заключения мира, о котором вся армия только и мечтает.
Хватит! Повоевали! Будя! Попили нашей солдатской кровушки!
Обо всем этом говорилось больше намеками, с присказками, ужимками, многозначительными умолчаниями, скорее ворчливо, чем грозно.
Солдаты не стеснялись высказываться в моем присутствии. Меня давно уже считали как бы своим, несмотря на мои погоны вольноопределяющегося.
Ах, как это было непохоже на мое прежнее представление о войне!
Вот бы, думал я тогда, привести сюда авторов военных рассказов, заполняющих газеты и журналы того времени, и поэтов, воспевающих в своих патриотических стихотворениях безымянных героев в серых шинелях, идущих на врага «с железом в руках и с крестом в сердце».
Но вот ровно в одиннадцать появлялась неизвестно где ночевавшая сестрица в черной кожаной куртке на меху, в валенках и папахе, не без лихости заломленной над блудливым румяным личиком с кудряшками на лбу.
— Здравствуйте, солдатики!
— Здрав… жлай… сестрица!
— Ну-ну, не толпитесь, не напирайте. Всем хватит. Щелкает амбарный замок.
— Кто с передовых позиций, вперед!
Несколько пехотинцев протискиваются вперед. Они вне очереди. Это их священное право.
Вскоре по всем фронтовым дорогам и тропинкам идут на позиции солдаты с узелками и кульками, а больше всего с пачками махорки «Тройка» и книжечками папиросной бумаги, оттопыривающими карманы их потрепанных, а местами слегка обгорелых боевых шинелек.
Лица счастливые, розовые с мороза. Они уже выбросили из головы все, что принес им солдатский телеграф, пока стояли в затылке у входа в лавочку.
Но нет. Они не выбросили из головы. Не забыли.
…Они не забыли… Они не забыли…
Против лавочки рубленая избушка — солдатская банька. Возле нее христолюбивое воинство топчется со свертками белья и березовыми вениками под мышками. Вениками, наломанными с кутузовских берез, они запаслись впрок еще прошлым летом и хранили их в своих вещевых мешках вместе с противогазами, не зная, доживут ли они до зимы.