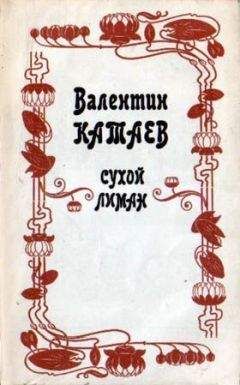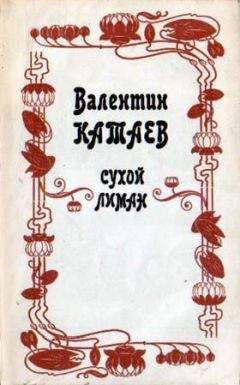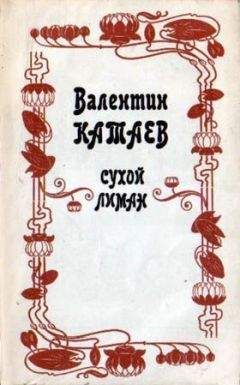В промежутке между боями шла монотонная армейская жизнь, страх смерти исчезал, а «равнодушная природа» продолжала свой круговорот: морозы сменялись оттепелями, зима переходила в весну, сверкали ручьи, голые деревья покрывались зеленью, наступало лето, солнце жгло неимоверно, случались грозы и ливни со всей их неописуемой красотой, в лесах пахло грибами, незасеянные крестьянские поля зарастали сорняками, скудная белорусско-литовская земля, истерзанная войной и засоренная камнями, принесенными сюда еще со времен ледникового периода, которые давно уже никто не убирал и не складывал на обочинах, как водится, белыми пирамидками, кое-где рождала хилый колос самосеяной ржи или синюю коронку василька, теплящуюся, как лампадка.
В один из таких знойных дней я сидел на лафете, грелся на солнышке и думал о Ганзе, о своей страшной безответной любви, когда сзади ко мне подошел Колыхаев, постоял некоторое время молча и наконец произнес:
— Вот это насекомая так насекомая!
С этими словами он осторожно двумя пальцами снял с воротника моей гимнастерки и показал жирную полупрозрачную платяную вошь, зеленовато-черную внутри.
Добродушно улыбаясь в усы, он положил насекомое на ноготь большого пальца и прищелкнул другим ногтем так, что послышался звук лопнувшего пузырька.
Я был ошеломлен. Я так тщательно следил за собой, ходил в баню, часто стирал белье; даже в лютые морозы. Выстиранные рубахи и подштанники, развешанные на елочках маскировки, надувались от жгучего северного ветра, да так раздутые, с раскинутыми рукавами и леденели, гремя, как жестяные. Когда я вносил их в натопленную землянку, они оттаивали, но оказывались совершенно сухими. Мороз высушивал их. Приятно было надевать свежевыстиранное белье, пахнущее с мороза ландышем!.. И вдруг на мне нашли вошь!
Конечно, подумал я, это простая случайность. Вошь наползла на меня с кого-то другого. Но Колыхаев внимательно осмотрел меня со всех сторон своими зоркими рыбацкими глазами и снял с моего погона еще одну вошь, которая с медленной скоростью секундной стрелки мелкими стежками ползла по нагретому солнцем сукну.
— Так что поздравляю вас, обовшивевши, — добродушно сказал Колыхаев, казня второе насекомое.
— Не может быть! — воскликнул я, покраснев так ярко, словно меня уличили в чем-то постыдном, в позорной болезни.
— Что тут, друзья, за происшествие? — раздался сановный голос фельдфебеля Ткаченко, вместе со всеми остальными батарейцами вылезшего из своей особой фельдфебельской земляночки погреться на солнышке.
Я резво вскочил на ноги и вытянулся.
— Ничего. Не тянитесь. Седайте обратно, — сказал Ткаченко, выпятив по своему обыкновению живот и грудь с Георгиевскими крестами и медалями, и сделал передо мною несколько шагов туда и назад, как бы перед фронтом.
Он обдумывал происшествие: в армии велась неусыпная борьба с вшивостью.
— А ну, господин вольноопределяющийся, — наконец сказал он, — попросю вас, скидайте гимнастерку, и давайте побачим, что у вас там такое завелось.
Я снял пояс и стянул через голову гимнастерку, ту самую, из толстого японского сукна, некогда купленную на толчке. Гимнастерка вывернулась наизнанку, показав все свои внутренние швы и завязанные узелочками шнурки, которыми были прикреплены пуговички погонов. Шнурки эти оказались покрытыми белесым бисером гнид, которые блестели также внутри швов.
Ткаченко нахмурился и приказал вызвать на линейку всех свободных от нарядов батарейцев. Он прошелся несколько раз туда и обратно вдоль строя, погладил себя по своему офицерскому поясу, облегавшему живот, и сказал:
— Вот что, друзья. Скидайте гимнастерки и рубахи, и посмотрим, что у вас там делается.
Мне и сейчас, уже старику, неприятно вспоминать картину знойного июльского дня и ряд полуголых батарейцев, сидящих кто на земле, кто на лафете, кто на пороге землянки и под наблюдением фельдфебеля бьющих вшей, выловленных в складках нижних рубах и гимнастерок.
— Вот, друзья, до чего вы себя допустили за долгую зиму в землянках. А ну-ка скидайте шаровары, так как насекомые больше всего любят размножаться в суконных штанах и подштанниках. Не стесняйтесь, так как здесь в радиусе на двенадцать верст вы не найдете ни одной жинки, кроме дивчины из лавочки земского союза. Так что действуйте смело!
Развели костер из сухого валежника, и батарейцы трясли над ним верхнюю и нижнюю одежду, выжаривали насекомых, которые, падая в огонь, электрически потрескивали.
Фельдфебель, в общем, был удовлетворен: его батарея не слишком сильно обовшивела за зиму. Могло быть и хуже.
…На пять или восемь верст в окружности между развалинами Сморгони, деревней Бялы, железнодорожной станцией Залесье и деревянным мостом через синюю реку Вилию, на который немецкие аэропланы постоянно сбрасывали бомбы, и всегда версты на две мимо, лежала лесистая местность, казавшаяся такой мирной, даже безлюдной, а на самом деле набитая войсками всех видов оружия, особенно артиллерией.
Бродя в свободное время по окрестностям, я то и дело натыкался на хорошо замаскированные батареи разных систем и калибров. На одну версту фронта я насчитал сто пять, как принято говорить, стволов: несколько батарей полевых трехдюймовок, гаубичные дивизионы, тяжелые орудия и даже две железнодорожные платформы с чудовищными виккерсовскими дальнобойными пушками:. их наблюдатели находились в корзинах привозных аэростатов и постоянно висели высоко в небе. Я уж не говорю о морских двухдюймовках системы Гочкиса, размещенных в пехотных окопах.
Вся эта могучая убойная сила была нацелена на одну сравнительно небольшую высотку, занятую немцами.
Я сначала не понимал, на кой черт тратить столько усилий против такой сравнительно пустяковой цели. Но как-то, побывав на станции Залесье в вагоне-лавке Союза городов, я купил столичные газеты и увидел в них множество цензурных плешей и целых длинных статей, замазанных черной цензурной так называемой икрой, действительно похожей на паюсную. Кроме того, там были помещены указы о смещении старых и назначении новых сановников. Все это заставляло думать, что в тылу далеко не все благополучно, что Российскую империю трясет.
Прочитав же телеграммы из-за границы, а также сводки верховного главнокомандующего, и шагая по железнодорожному полотну Минск — Вильно в свою батарею, впервые понял я истинные масштабы войны, которую до сих пор не воспринимал как мировую. Я понял, что наступает критический момент и мы спасаем своих союзников — французов и англичан, отвлекая немецкие дивизии с западного фронта на себя. Мощная демонстрация на нашем небольшом участке фронта, о котором будущие историки, может быть, даже и не упомянут как об одной из героических страниц русской славы и верности союзникам, стала для меня особенно дорогой, и мне не хотелось переходить на какой-то другой фронт.
Но ведь я сам вместе со всеми батарейцами проклинал утомительную позиционную войну, сидение на одном месте, надоедавшее до последней степени, неизвестно когда этот кошмар кончится.
И вот он кончился. По-видимому, для нас кончилась позиционная война и наконец-то начнется война веселая, полевая, с быстрыми передвижениями, как и подобает войне наступательной, победоносной.
Я уже забыл на некоторое время распятие среди развалин костела и тягостное ощущение, что сам антихрист вселился в меня.
Я желал перемен в своей судьбе. А стоило мне только чего-нибудь пожелать, как оно исполнялось. В этом было что-то зловещее.
«Г. Рени, Бессарабской губернии, 11 августа 916 года. Сейчас я в Рени. Дунай — серая, как бы пыльная, широкая, некрасивая река. Арбуз стоит три-четыре копейки. Привет всем Вашим. Дорогая Миньона, продолжаю прерванное. Прежде чем попасть на берег Дуная, нам еще пришлось порядочно помотаться. Оставив наши насиженные места под Сморгонью, мы прошли пешим порядком верст пятьдесят по лесистым местам и болотистым дорогам и остановились в убогой, седой деревеньке: бревенчатые избы с почерневшими соломенными крышами. Может быть, эти-избы еще помнят Наполеона и войну двенадцатого года.
Рябины с гроздьями огненно-воспаленных ягод. На огородах репа и грядки белых, лиловых, розовых маков. В небе сизые тучки. Север! Возле деревни, за ручьем, посередине ярко-зеленой зыбкой топи, пружинящей под сапогами, аэропланная позиция, которую мы должны охранять. Там находится надежно замаскированный отряд военных летательных аппаратов типа «Илья Муромец» конструкции молодого политехника Сикорского.
Вы, наверно, об этом уже читали в газетах.
Признаться, я не без волнения узнал, что мы будем охранять прославленные аэропланы «Илья Муромец», это ведь наша национальная гордость. Наше единственное свое собственное, неповторимое изобретение в области воздухоплавания, или, точнее, авиации. До сих пор нигде, кроме России, нет такого устойчивого, громадного, грузоподъемного аппарата тяжелее воздуха. Куда с ним тягаться неуклюжему немецкому дирижаблю «Граф Цеппелин»!