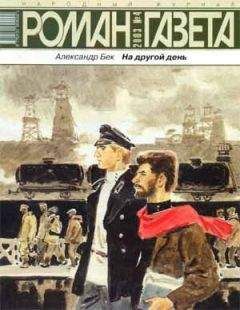— Есть ли гарантия, меж тем продолжал Сталин, что, явившись, наши товарищи не будут подвергнуты грубому насилию? Я вас спрашиваю, товарищ Ногин, имеете ли вы такую гарантию?
Ногин буркнул:
— Откуда она у меня?
— Следовательно, вы считаете возможной явку без гарантий? Так?
Ногин смолчал. Логика Сталина была несокрушима.
— Я предлагаю, — заключил Коба, — пусть товарищи Ногин и Серго немедленно отправятся в Центральный Исполнительный Комитет Советов и выяснят, дают ли нам абсолютную гарантию…
Ленин перебил:
— Абсолютных гарантий не бывает.
— Теорию не затрагиваю. Практики мою мысль поймут. — И Коба повторил: — Абсолютную гарантию, что не будет допущено насилие. Уклоняться от явки наши товарищи не намереваются. Но без гарантий мы их не отдадим. Так чего же терять время? Серго, пойдешь?
Серго мигом соскочил с подоконника:
— Конечно.
— Товарищ Ногин, пойдете?
— Ясное дело, пойду.
— Ну вот, Владимир Ильич, принесут гарантии, тогда станем дальше рассуждать. Что, не хотите подождать?
— Подождать можно. Однако свою точку зрения я не переменил.
— Э, случается, Владимир Ильич, что вечер мудрей утра.
Ленин оставил без внимания исправленную Кобой поговорку. И, взяв со стола свое заявление, протянул Серго:
— Передайте.
Интонация и жест непреклонны. Серго уже ранее прочитал эти строки. Теперь черные глаза вновь выхватили: «…явлюсь в указанное мне ЦИК-том место для ареста». Ничего не выговорив, Серго сумрачно кивнул.
Несколько минут спустя Ленин вошел к себе, то есть в выделенную ему дальнюю комнату.
Там у этажерки с книгами сидела Надежда Константиновна. Ее ничем не занятые худощавые кисти покоились возле колен. Ничего не вымолвив, властвуя собой, она лишь быстро взглянула на мужа. Ильич уже не был бледен, со скул исчезли пунцовые пятна, слегка загорелое лицо восстановило здоровый цвет.
— Мы с Григорием решили явиться, — сразу произнес он. — Пойди, скажи об этом Каменеву.
— Что сделать еще?
— Еще?.. Не пропала бы моя синяя тетрадь… — и продолжал: — Подожди. Напишу ему кое-что…
Присев к столу, уже оснащенному стопкой чистой бумаги, без чего Ленин нигде не обходился, он застрочил своим скорым пером. Подойдя, Крупская глядела на строки, возникавшие из-под сильной, широковатой руки:»…если меня укокошат, я Вас прошу издать мою тетрадку «Марксизм о государстве» (застряла в Стокгольме). Синяя обложка, переплетенная…»
«Если меня укокошат…» Верхняя крупная губа Надежды Константиновны прижала нижнюю. Вот Ильич и дописал.
— Отдай Каменеву.
— Хорошо. Она деловито сложила, упрятала записку. Так я пошла.
И повернулась к выходу. Ленин ее остановил.
— Давай попрощаемся. Может, уже и не увидимся.
Она кинулась к нему. Губы ощутили легкое покалывание подстриженных его усов. Неужели теперь она последний раз обняла Володю? Но, как велел ей долг, не обронила ни слезинки, справилась с собой, разомкнула свои руки, сжимавшие милую голову, вновь стала собранной, ушла.
…К вечеру в квартиру на 10-й Рождественке вернулись Серго и Ногин, прошагали к Ильичу, у которого находился Сталин. Владимир Ильич, оборвав незаконченную фразу, мгновенно повернулся к вошедшим. Чуть ли не с порога Серго гаркнул:
— К чертям всякие разговоры насчет явки! Никаких гарантий никто дать не смог. И мы сказали: Ленина вам не дадим!
— Мы? И Ногина в ту же веру обратили?
Ногин не без смущения подтвердил:
— Нельзя, Владимир Ильич, являться! Они там, в президиуме ЦИКа, сами не знают, не посадят ли их завтра.
Еще несколько мгновений Ленин вглядывался в обоих и в посверкивающие нетерпением черные, и в ясно-голубые радужки. Затем, как бы вновь обретя заряд энергии, он почти бегом выскочил в коридор.
— Григорий, идите сюда. Есть новости.
Возвратился, насвистывая, эдак он порой свистел в шахматных баталиях. И обратился к пришедшим:
— Ну-с, ну-с, расскажите-ка последовательно, как, гм, гм, провалилась ваша миссия… Серго, не поминать черта сумеете?
— Конечно, сумею, черт побери.
В общем смехе разряжается драматичность минуты. Пусть же не пропадет для истории эта черточка — легко возникавший среди большевиков смех. Ленин сейчас не заливался, а хохотал, как бы пофыркивая. И с напускной укоризной поматывал головой. Остановившийся в дверях Зиновьев взирал на сотоварищей с вопросительной улыбкой, которая сделала его моложе.
— Факты, факты! — став серьезным, потребовал Ильич.
Серго, дополняемый изредка Ногиным, сообщил разные подробности. Неопровержимо вырисовывалось: соглашатели бессильны, они не в состоянии дать гарантии. Повстречавшийся случайно Луначарский просил передать Ленину, чтобы тот ни в коем случае не шел арестовываться, ибо фактически к власти приходит необузданная контрреволюция.
В какой-то момент Сталин негромко молвил:
— Пойду покурю.
— Заодно и помозгуйте.
— Чего мозговать? Все ясно, Владимир Ильич.
Коба подымливал в коридоре своей гнутой трубкой, когда у входной двери протрещал звонок. Пришла уже во второй раз нынче — Мария Ильинична. С порога кинула тревожный взгляд на Сталина. Тот продлил молчание, затем улыбнулся:
— Старика не отдадим! — И шутливо добавил: — Самим нужен.
…На следующий день Ленин написал статью «К вопросу об явке на суд большевистских лидеров». Статья заканчивалась так: «Не суд, а травля интернационалистов, вот что нужно власти. Засадить их и держать вот что надо гг. Керенскому и K°. Так было (в Англии и Франции) — так будет (в России).
Пусть интернационалисты работают нелегально по мере сил, но пусть не делают глупости добровольной явки!»
Владимир Ильич и еще поработал пером на квартире-вышке, передал наведывавшемуся ежедневно Кобе статью «Три кризиса». Вновь и неизменно он, большелобый неукротимый вождь большевиков, выступал как человек науки, восприемник строгого Марксова метода. Нелепо думать, что революционные кризисы могут быть вызваны искусственно. Революцию не породят самые горячие, архиблагие желания, если действительность, история не чреваты ею. Это ключ к совершающемуся, ключ к грядущему. «Неужели трудно догадаться, вопрошал он, что никакие большевики в мире не в силах были бы «вызвать» не только трех, но даже и одного «народного движения», если бы глубочайшие экономические и политические причины не приводили в движение пролетариата?» И дал формулировку новому парадоксу борьбы, который выказал себя в июльские кризисные дни (в схватывании таких парадоксов он был покоряюще силен): «Это — взрыв революции и контрреволюции вместе».
Тем временем для обоих потаенных обитателей квартиры Аллилуевых было найдено более глухое, в стороне от питерского сыска, укрытие на станции Разлив. Решили перебираться туда воскресным ночным поездом, что отходил с маленького, расположенного на городской околице (издавна так и звавшейся Новой Деревней) Приморского вокзала.
Еще накануне Ленин попросил Сергея Яковлевича принести карту Петрограда, чтобы определить, по каким улицам безопаснее пройти на вокзал. Аллилуев сказал:
— Не беспокойтесь, Владимир Ильич. Этот путь знаком мне как свои пять пальцев. Каждый проулочек насквозь известен.
— Живали там?
— На моем попечении был районный пункт кабельной сети. И жил с семьей тут же на пункте. Излазил, исходил по всем фидерам десятки раз.
— Фидерам? Что за штукенция?
— Если выразиться попросту, фидер — это провод к потребителю. Три фазы — три провода.
— Почему же три? — с интересом спросил Ленин. Но тотчас себя оборвал: — Впрочем, пока это оставим… Карта, Сергей Яковлевич, мне все-таки нужна.
— Да я сейчас могу нарисовать путь.
— Не сомневаюсь. Но тем не менее я сам должен знать и видеть наш маршрут на карте. Мало ли что может произойти! Вдруг в пути вынуждены будем расстаться… Словом, план Петрограда нужен мне безоговорочно.
Проглянувшая ленинская непреклонность завершила спор. Сергей Яковлевич в тот же день принес. Владимиру Ильичу план.
С утра в воскресенье оба скрывавшихся стали готовиться к походу-переезду. Следовало по возможности изменить внешность. Ольга Евгеньевна, которая по должности медицинской сестры приобрела парикмахерские навыки, быстро срезала ножницами под гребенку мелко вьющуюся шевелюру Зиновьева, потом принялась за Ленина. Несколько закосматившиеся его волосы падали рыжими острижками. Ножницы расправились и с его усами, оставив встопорщенный ворс. Бородку предстояло вовсе снять. Ловкие, в коротких рукавчиках женские мягкие руки быстро побелили мыльной пеной подбородок Ильича, вооружились бритвой и… И вдруг новоявленная парикмахерша произнесла:
— Ой, Владимир Ильич, боюсь порезать!