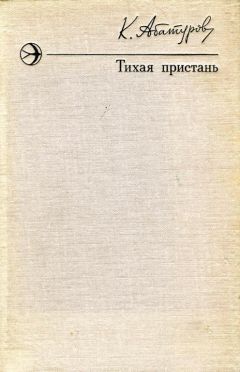— Злишься, грубишь, а того не знаешь, что мучку я вернула твоей мамушке. Зачем она, чужая, нам?
— Ври больше! — не поверил я.
— А вот и не вру. Утром принесла. В сенях, на лавке, и оставила, — сказала она и вздохнула: — Господи, ничему-то не верят… Только и видят в нас злыдень каких-то… А между прочим, в одной деревне живем, одним воздухом дышим. Эх!..
Снова махнув рукой, она вырвалась вперед, оставив меня одного. Я глядел ей вслед, на склоненную голову, она и впрямь вызывала жалость к себе. Пройдя еще немного, Глафира вдруг выпрямилась, вскинула голову. Как она сразу преобразилась, гордой да статной показалась. «Оба хваты — и Никифор и она», — вспомнил я слова матери. Нет, сейчас эта кличка не подходила ей.
Шла она не оглядываясь, шагала размеренно, чуть покачивая бедрами. По стройным ногам в хромовых сапожках плескался светлый плащ с пояском.
Вскоре дорога свернула в сторону, огибая болотину, а пошла под уклон.
Глафира наконец-то обернулась.
— Догоняй, что же ты? — крикнула мне. — Скоро будет река.
— Ты бы переобулась, — не в лад ответил я.
— Пожалел все же, — усмехнулась она.
И, не останавливаясь, зашагала дальше, навстречу сверкнувшему за деревьями изгибу реки.
Я подошел к реке последним. Обычно за лето Шача мелела, как глубокие пролысины, обнажались песчаные откосы. Сейчас же она была многоводна, широка. Долго лившие до этого дожди сделали свое дело. Никифор покричал перевозчика, но никто не откликнулся. Тогда он, чему-то ухмыляясь, спустился по тройке к тальнику, отвязал лодку и, сев за весла, мотнул нам головой. Глафира легонько толкнула меня вперед, затем шагнула за мной. Я оказался в лодке как раз на среднем сидении, между Глафирой и Никифором, лицом к лицу с последним.
Отчалив от берега, Никифор, все так же ухмыляясь, спросил:
— Об чем договорились?
— Он, батя, все понял, — отозвалась Глафира. — Он не будет винить нас…
— Так? — нацелил Никифор на меня большие зеленые зрачки.
Свет их плеснул на меня холодом, и я невольно вздрогнул, а язык словно прилип к гортани.
— Ладно. Молчание — знак согласия! — ответил он за меня. Посмотрев на противоположный берег, который тоже был безлюден, Никифор стал грести сильнее; лодка, разрезая носом мутную воду, ускоряла ход; слышались только всплески весел и стук волн о борта.
«Что это он заторопился, погнал? — недоумевал я. — И зачем она, Глафира, так сказала? Решила за меня? А кто ее просил? Кто?» Я мгновенно обернулся, обернулся, должно быть, тогда, когда она не ожидала, и встретился с ее взглядом, с ею глазами. Они в этот миг были такие же, как у Никифора, — холодные. Она попробовала улыбнуться, но сразу не смогла растопить этот холод.
Я медленно отвел от нее взгляд. В ушах тотчас прозвучали слова матери: «Хваты, хваты!»
— Ты что, Кузеня? — встревоженно спросила Глафира. — Быть, испугался чего…
— Ничего не испугался.
— А сам, быть, переменился.
— Это ты переменилась. Ты и дядька тоже, оба…
— Тиха! — прикрикнул на меня Никифор. — Ишь раскипятился. Я могу и остудить. — Он выпустил из рук одно весло, а другое вынул из уключины, поднял. Угрожающе нависло оно над моей головой.
Единственно, что я приметил, так это то, что лодка была уже на середине, что до обоих берегов было далеко и что течение быстрое, с коловертями, будто река всполошилась.
— А-а, глядишь, где мы. На середине, на самом подходящем месте. Самое время здеся последний разок поговорить по душам… — расплывался Никифор в недоброй усмешке. — Стало, с чего начнем? Нет, консомолец, теперча ты молчком не отделаешься. Говори как на духу, что покажешь на суде? Слышишь — нет?
Я молчал.
А весло все так же угрожающе висело над головой. Вот-вот Никифор опустит его, и я окажусь в реке, и меня не будет. Свидетели? Их нет!
«Михайлыч, где ты, что я могу без тебя?» Я вызывал его, и как при вспышке молнии на момент возникало передо мной его худое, измученное болезнью лицо с черными жестковатыми бровями, какие мне запомнились еще с прошлого года, когда я подавал заявление о приеме в комсомол. «Все ли продумал? — спрашивал он тогда меня. — Причастность к комсомолу обязывает не к легкой жизни, а к борьбе. С сего дня ты будешь на примете у всех нечестивых. — Тут он усмехнулся и пояснил: — Старик мой так пакостных людишек называл. Держись, парень!»
— Ты что — молвы лишился? — словно издалека донесся до меня голос Никифора.
Я поднял голову. Весло все еще висело надо мной. И оно как бы все ширилось, росло. Меня охватила ярость. Не думая уже о том, что я, шестнадцатилетний жиденький безусый парнишка, против него, сутуловатого ширококостного лешака, сущий слабачок, закричал:
— Бей! Чего же? Ну!..
Он, видно, не ожидал этого и какое-то время глядел на меня оторопело.
— Ага, сам трусишь. Сам! — забыв страх, продолжая я кричать. — И на суде будешь трусить! Я все скажу, все, все!.. Пакостные вы, да, да…
— Тиха! — опомнившись, снова зыкнул он.
Но я уже ничего не боялся.
…От реки нам пришлось идти еще километра четыре. Все мы шли порознь, гуськом. Никто уже не пытался начинать разговор. Глафира шла последней, позади меня. Лишь время от времени доносились до меня ее вздохи.
Но когда мы подошли к большому, в два этажа, деревянному дому, где должен заседать выездной суд, она придержала меня за рукав и склонилась к уху.
— Об одном прошу тебя, Кузеня. Не вини там батю. Старый, сердце у него… Давай уж все, да, все на меня свали… Авось вытерплю… — скорбно поглядела она мне в глаза. — Обещаешь? Хоть за муку, Кузеня…
— Муку можешь опять взять. Раз пропита… Но вернешь ли всем свой долг?
Теперь Глафира посмотрела на меня ненавидящим взглядом.
— Злыдень!.. Ладно…
Обратно я шел один. До перевоза дошел еще засветло, но в лес вошел, когда уже стемнело. Лесом мне недолго пришлось идти, никто мне сейчас не угрожал: Никифор и Глафира остались ночевать в селе — назавтра им нужно было явиться к секретарю за приговором.
У ближайшего перекрестка я повернул на торную дорогу, что вела в центральное село. Там была больница, там лежал Михайлыч. Я шел к нему. Хоть приговор и был вынесен, но для себя я не считал суд оконченным. Еще Михайлыч не сказал своего слова.
Нет, я не сдрейфил на суде, рассказал все. Но когда обвинитель потребовал «упрятать злостных самогонщиков за решетку, чтобы не мешали строить новую жизнь в деревне», я вскочил с места и сказал, что не за что таких на казенный хлеб сажать. Обвинитель удивленно пожал плечами: не понимаю-де, и спросил, чего же я хочу.
— А того, — быстро ответил я, — раз искалечили они людей, так пусть теперь сами и ставят их на ноги. Пусть отвечают за человека, а незаконно нажитые деньги вернут.
Никифор в ответ только злобно хмурился. А Глафира пронзала меня все тем же ледяным взглядом. И была она в ту минуту до неузнаваемости дурна лицом.
Суд приговорил Никифора условно к году исправительных работ.
Выходя из зала суда, Глафира бросила мне: «Не гордись, не вышло по-твоему…»
Я думал, что и Михайлыч будет упрекать меня. В больницу меня не пустили — было уже поздно. Я дождался утра. А утром увидел и Михайлыча, рассказал ему о приговоре, виновато взглянув в его большие глаза:
— Глафира радуется, что не вышло по-моему.
— Нет, вышло! По-твоему, по-нашему! Ведь суд-то состоялся! В защиту человека! — обрадованно проговорил Михайлыч и похлопал меня жестковатой рукой по плечу.
— Большой день у тебя вышел, с добрым запевом, дорогой мой комсомолец!
После вечерней охотничьей зорьки старый лесник Иван Максимович, забрав в лодку трофеи, поехал к месту ночлега. Над уснувшим приволжским озером выглянула луна, огляделась и спряталась в облаках. На ветру пошумливали камыши, порой взлетали потревоженные одинокие утки. Но стрелять уже было нельзя: сгущалась темнота.
Над полуугасшей полоской зари чернели сосны и березы на приблизившемся берегу. О корни их мягко плескалась вода. Лесник гнал лодку в бухточку. В ней всегда тихо, тут он и переночует.
Всю жизнь Иван Максимович охотился только на уток. Но нынче у него появились счеты с одним сохатым. Зимой повадился этот великан в сосновый молодняк, который пятнадцать лет назад лесник своими руками сажал. Лесник видел в этой молоди будущий лес, а лось облюбовал его как корм. С жадностью поедал он вершинки. Для него, видно, не было ничего вкуснее их, нежных, сочных, духовитых. В иных местах так были обезглавлены сосенки, будто с косой тут прошлись. И лесник все время подумывал о своем обидчике. Давно созрело и решение: как только получит лицензию, пойдет «на вы».
Но сейчас — отдыхать. На берегу он сварит крякву, подкрепится, чтобы утром еще пострелять. Надо беречь время: отпуск на исходе.