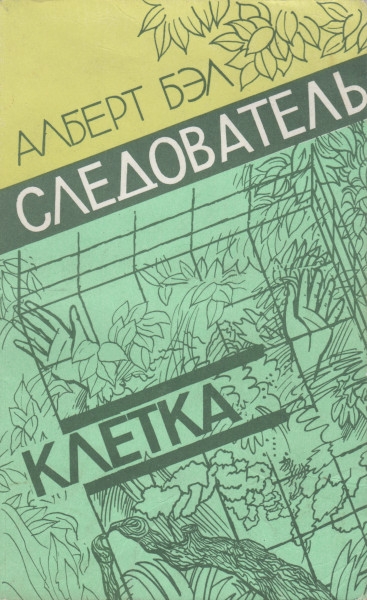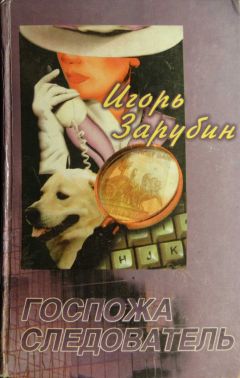человек привыкает еще сызмальства. Будучи ребенком, он подносит взрослым шлепанцы, ботинки, катушку с нитками. В классе он спешит подать учителю мел или мокрую тряпку, даже не в свое дежурство, и, наконец, он подает первую записочку с ябедой на товарищей. С этого момента он становится дипломированным прислужником, отныне он прислуживает только вверх. Он, так сказать, прислужник-верхогляд. Ему некогда посмотреть вниз, прислушаться к голосу народа. Народом он называет всех, кто стоит ниже. Он сам не народ. Он прислуживает. Случается, к сожалению, нередко, подобный прислужник забирается так высоко, что под ним оказываются многие, а над ним немногие. И тогда ему некому больше прислуживать. Прислуживать вниз он не может — там народ, а с верхушкой он поравнялся. Не прислуживать же равному. Это настоящая трагедия, и прислужник двенадцать дней и двенадцать ночей грызет ногти, после чего его лакейская душонка берет верх, и он принимает единственно верное решение, которое помогает ему сохранить в чистоте и непорочности святое призвание прислужника. Он начинает прислуживать самому себе. Он прилипает к своей карьере, словно муха к липучке. Предел его желаний — самому себе назначить пожизненную пенсию.
Есть люди, которых постоянно толкают. Такого человека с утра из постели выталкивает жена. Возле дома его ненароком толкнет дворник. Стоит ему на полсекунды замешкаться, поднимаясь в троллейбус, как ему наподдадут в спину. На улице он озирается, словно лунатик, и прохожие оттирают его к витринам. А то вдруг у входа в магазин уставится себе под ноги, задерживая людской поток, пока кто-нибудь больно не ударит его по коленке углом чемодана. Но ему все нипочем. Уж такая судьба. Его мысли витают далеко. У него на уме какое-то открытие или подвиг.
— Смотреть надо, — слышу вдруг сердитый окрик.
Резко затормозил автомобиль, лизнув меня, словно пес, желтым языком подфарника.
Дворники соскребывали снег с асфальта, лопаты галдели, как галки. На перекрестке я перед самым носом красного трамвая перебежал через линию.
Так что же такое современный человек? Какой он? Мы обычно видим только его оболочку, внутри он куда сложнее, его не объяснить при помощи софистики. Можно спросить себя, можно спросить других. Но лишь своим рассудком, своими силами дано постигнуть, что такое жизнь и что такое смерть. Что такое радость? Больше, чем хлеб, нужна людям радость. Я такой же, как они — мои модели, мои современники. Почему мне нравятся пожилые люди? Не потому ли, что они больше съели соли? Талме, Гулцевиц, старик Кундар? Лидия? Впрочем, Лидию не назовешь пожилой, ей лет сорок. Зайду сегодня к Лидии. Но сначала загляну к старику Кундару, он всегда сидит в своей будке — и зимой и летом. Днем и ночью! Больше, чем хлеб, нужна людям радость. Я знаю, старик Кундар обрадуется, увидав меня. «Молодец, не забываешь друзей», — скажет он.
— Привет, — сказал я.
— Привет, — ответил он и притворил дверь будки, чтоб не впускать холода. Я сел в высокое кресло. — Как дела?
— Неплохо, — ответил я.
— А мои как дела?
— И твои дела недурны, скоро опять поедешь на выставку.
— За компанию с прокурором в отставке?
— Да, за компанию с прокурором.
— Ты передай ему, чтоб наведался. Хочу потолковать с ним. А он и вправду такой же некрасивый и такой же умный, каким ты изобразил его.
— Не знаю, как насчет красоты, а ума у него не отнимешь. Хорошо, я передам, что ты хочешь его повидать! Холодно сейчас, вот он и не едет в город.
— А та парикмахерша тоже будет на выставке?
— И парикмахерша будет.
— Ну, тогда нам скучать не придется, хоть один бабец в компании.
— Не беспокойся, подберут для вас еще какую-нибудь даму.
— А прокурору ты передай привет.
— Передам.
— Молодец, не забываешь старого Кундара. Только ты сегодня какой-то странный, а? Не захворал?
— Брат умер. Утром.
— Старший?
— Да. Рудольф.
— Сколько лет?
— Тридцать пять.
— Молодой.
— Да, молодой.
— Жена, дети остались?
— Остались.
В, почерневших руках Кундара замелькали щетки, но сначала он тряпочкой счистил снег с ботинок, затем круглой щеточкой смазал их ваксой, теперь наводил глянец.
— Так, — произнес он, — ставь второй.
Кундара ранили под Ладогой. Руки у него поднимаются только до плеч. Перед войной Кундар работал в парикмахерской, говорит, чертовски хорошо брил бороды. После ранения об этом не могло быть речи, и вот уже который год сидит он в своей будке, чистит ботинки. «Я должен быть на людях, — говорит он, — я должен работать». У него приятное, загорелое лицо, на щеках залегли суровые складки. Когда я высек его из гранита, он сказал: «Гранит — это вещь, не то что мрамор. Гранит — совсем другое дело!»
Засветив звездочку на ботинке, он отложил бархатку в сторону.
— Порядок! Но ты немного посиди. На улице холодно.
— Тебя ждут клиенты.
— Ничего, подождут.
Я посидел немного, потом сказал:
— Теперь пойду.
— Привет жене.
— Спасибо, передам.
Я прошел несколько кварталов. Парикмахерская помещалась на пятом этаже. Пока взбирался лифт, пощелкивая на каждом этаже, я разглядывал ливрейного лифтера, был он чрезвычайно почтенной наружности — совсем седая голова с безукоризненным пробором, выражение лица бесстрастно-величавое. Мне казалось, этот человек до тех пор смотрелся в зеркало, пока не вызубрил это выражение, и теперь напускал его с таким же проворством, с каким расчесывал свой пробор. Движения ливрейного лифтера были размеренны, полны достоинства. Мне подумалось, что за малейшее движение он привык получать деньги. Рядом с парикмахерской на пятом этаже помещался ресторан, и лифтер одновременно был и швейцаром. Взмах руки его стоил, по крайней мере, двадцать копеек, поворот головы обходился в тридцать, а уж если он к тому же улыбался, тут выкладывай полтинник. Лифт остановился. Лифтер неспешно и чинно открыл дверь, я прошел налево, где была парикмахерская. Пришлось немного подождать, пока освободилось кресло.
— На кого вы похожи?! — воскликнула Лидия.
Да, я здорово зарос. Обычно ношу короткую прическу.
— Сделайте меня человеком, — сказал я.