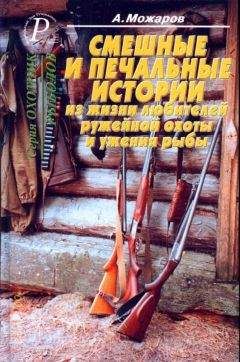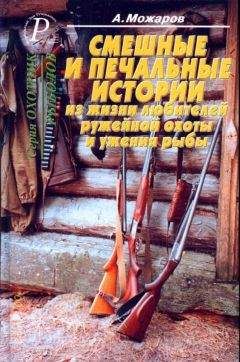— Я, главное, бегу, а сам не знаю, кого Чара обрабатывает, — со скромной улыбкой героя признался Сашка в своих сомнениях. — Вдруг она по мелкому лает, а секач где-то в стороне, в кустах. Они же, если залягут, так с двух метров не видны!
Последняя фраза окончательно должна была убедить слушателей в тонком знании им особенностей зверовой охоты. Приободрившись, он обвел взглядом благодарную аудиторию, и выдал еще одну вычитанную привычку кабанов в качестве собственного наблюдения:
— Бегу, а самому боязно — раненый кабан ложится ведь рылом в сторону погони. Наскочу на него вштык и конец.
После второго выстрела мы с братом вновь услышали Чару. На этот раз в ее голосе слышно было подвизгивание. Ей было больно. То, что лайка ранена еще перед первым выстрелом, мы уже поняли по ее истеричному стону. Если же она заголосила после второго выстрела, то дело могло быть плохо уже для Сашки.
— Бежим! — крикнул брат, срывая с плеча ружье, и мы, отплевываясь, помчались на лай.
* * *
— У меня такой дурняк от страха по всему телу пошел, когда он ко мне метнулся! — горячился Сашка, ворочаясь на больничной койке и незаметно для себя потирая ногу левой рукой. — В последнюю секунду прыгаю в куст, а он мне — бум — по ноге достал и метров шесть вперед проскочил. Я и острой боли-то не почувствовал. Будто ушибся просто, только сапог весь затеплел. Гляжу на кабана, а он разворачивается, гад. Они же обычно проскакивают и уходят, а этот разворачивается. Медленно, как в кино. Ну, вот теперь наверняка, думаю, конец.
Сашка отпрянул было, но упругие кусты толкнули его назад, к секачу. Тот подошел, оступаясь точно пьяный, вплотную, передние ноги его подогнулись, и он рухнул вдруг перед Сашкой на колени, продолжая пожирать врага ненавидящим туманящимся взглядом. Сашка как-то судорожно махнул по нему прикладом ружья и еще до того, как ударить, понял, что промахнулся. С отчаяньем и злостью он увидел, что полированное дерево не встретило упругого препятствия, а легко скользнуло по щетине. Зверь не шелохнулся, но его уши вдруг опали, и он медленно повалился на бок, лишившись последних сил.
Раньше нас к месту схватки подоспели Хваленок и Барсик. Сашка сам уже успел перетянуть ремнем от патронташа ногу почти в паху и сидел серый, как серое небо над осенним болотом. Он курил и щурился от боли.
Кабан глубоко пропорол ему икру и бедро, разорвав сухожилия. Сапог и брючина были полны крови, и она продолжала струиться сквозь прорезь в кирзе. Барсик вытащил из рюкзака начатую бутылку водки, и Сашка через силу выпил ее, стуча по горлышку зубами.
Чара рычала, не давая Чуне приблизиться к себе. Хваленок пошарил в грудном кармане и передал брату пузырек с какой-то жидкостью. Жидкость оказалась крепким первачом, а в ней были шелковые нитки и обычные швейные иголки.
— Вы… Эта… Тут… зашей… собаку, а я… за мотоциклом.
Сашка порозовел тем временем и начал что-то быстро и сбивчиво объяснять Барсику и мне. Потом вдруг замолчал.
Сильно рассеченную грудь Чары брат зашил, будто перьевую подушку. Она даже не стонала. Потом он принялся разделывать тушу, а мы с Барсиком понесли вновь забалагурившего Сашку туда, куда велел Хваленок, к ближайшей дороге.
— Неужели с пробитым сердцем, он выдержал еще один выстрел и даже ногу мне смог распороть? — искренне удивлялся теперь Сашка, узнавший результаты своей стрельбы по кабану.
— Нет, — вдруг подал голос молчавший до сих пор Иван. — Ты попал ему в задницу, а он не вынес позора и умер от родимчика.
Все засмеялись.
— Не только в сердце, — подтвердил я. — Братова пуля прошла легкие и застряла в ребре. Твоя первая разорвала желудочки сердца, а вторая, не знаю куда ты метил, вспорола ему живот и оставила без «хозяйства».
— Вот это-то ему всего обидней и показалось! — продолжал придерживаться своей версии Иван, и на его слова засмеялись снова.
— Да-а-а-а, — задумчиво протянул Сашка. — Будь я там один, не знаю, был бы ли теперь жив.
Он немного помолчал.
— Я ведь, хоть и пьян был, а думал, что Барсик из меня всю душу вытряхнет, пока он меня домой вез. Вроде бы, когда туда ехали, и ухабов-то таких не было. За вами-то он скоро вернулся?
— На другой день, — ответил брат. — Еле проехал на своей «пятерке».
— Кстати, — вдруг вспомнил Сашка, когда мы уже распрощались и выходили из палаты в коридор, — а куда стадо-то делось? Остальные-то куда пропали?
— Не знаю, — ответил я, — может быть, рядом где-то схоронились. Нам не до них тогда было.
* * *
Выписали Сашку 19 декабря. Мы приехали за ним с братом. Сашка заметно хромал и щурился на снег и резкое морозное солнце, будто вышел из темницы. Идти ему помогала жена.
— Ну, слава богу, — проговорила Галка, заметив нас. — А то мы думали на автобусе добираться, датам на попутках от поворота. Да мне еще сон приснился нехороший — с воронами.
— Ерунда, — уверил я Галку. — Сегодня Никола Чудотворец, и страшные сны не сбываются.
— Да уж, Никола холодный и вправду холодный, — поддержал разговор Сашка, и вдруг с неба посыпались прозрачные стеклянные шарики. Они падали на снег и катились по нему, погоняемые ветром. Кто-то, должно быть дети, пускал в форточку шестого этажа мыльные пузыри. Они замерзали в воздухе, и падали вниз, не лопаясь. Долго смотрели мы на них.
— Давай этот год елку поставим, — проговорил Сашка, не отрывая взгляда от шариков.
— У нас все игрушки побитые, — возразила Галка.
— Так пойдем, сейчас купим, — нашел простой выход Сашка.
И мы потихоньку пошли, осыпаемые молодым снегом и радужными шариками.
БЕС, ГРАЧ, ЧИКА-ЦИКА И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ МАЛЕНЬКОЙ ПЛАНЕТЫ
СКАЗКА О СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЕ
о Кадницам я скучаю даже тогда, когда покидаю их на несколько дней. Длительные же поездки превращаются порой в пытку. В чужих красивых городах мне снится по ночам наш старый дом с окнами на волжские дали, запущенный сад, где майские пузатые шмели с неуклюжей проворностью топчутся по кружевам вишневых цветов, где благоухающая кипень сирени манит к себе перезимовавших бабочек и неторопливых бронзовок — жуков из зеленого золота. Траурницы с выцветшей за зиму до белизны лентой по краю почти черных плюшевых крыльев и облезлые маленькие крапивницы недолговечны. Их сменяют алокрылые белянки-авроры. А когда зацветет в заливных лугах колючая ежевика, огромные ленточники и отливающие синевой переливницы собираются у многочисленных ручьев и завороженно ползают по сырой земле. Короток век и меланхоличных полупрозрачных боярышниц, но нет до этого дела беспечному рою крушинниц, брюквенниц, репниц, капустниц и прочих легкомысленных существ с белыми и желтыми крылышками. Целыми днями вьются они в знойном воздухе или прячутся под крышей нашего дома от июньских гроз. В июле голубые и зеленые стрекозки с невидимыми крылышками-веслами с удивлением знакомятся со своими хищными родственниками — огромными коромыслами, а травяно-зеленые кузнечики наполняют неумолчным стрекотом склоны, холмы и луга. Томные гусеницы махаона объедают высокие стебли укропа, а грустные красавицы-пестрокрылки неподвижно сидят на лиловых шапках короставника и с упоением нашептывают сами себе:
— Как я прекрасна! Ах, как я прекрасна!
Когда же приходят сумерки лета-август, и в заливных лугах поспевает шиповник, огромные орденские ленты летят по вечерам из прохладной мглы на свет лампы и стучат в наши окна мягкими крыльями.
Как бы далеко я ни забрался, здесь меня всегда ждут и требуют рассказов о странах и городах, где пришлось побывать. И всякий раз, возвращаясь, я хочу рассказать брату за вечерним чаем об ажурных улочках и увитых плющем старинных домах из красного камня в пригородах Амстердама, где в маленькой галерее проходила выставка моих рисунков. Давным-давно там писал натюрморты художник, который так любил бабочек, что изображал их на всех своих картинах. Или о небольшом городке Кремона, где мостовая из голубого камня еще помнит солидную поступь мастера Страдивари и нетвердый пьяный шаг мастера Гварнери. Или о горе недалеко от Киото, куда специально приезжают со всей страны любоваться полной луной, отраженной в черной ночной воде озера. Я хочу рассказать обо всем, что увидел, но всякий раз начинаю расспрашивать сам о том, что произошло здесь в мое отсутствие. Мне важна каждая деталь, которая касается нашего сада, дома, но прежде всего моего ягдтерьера Беса, не слезающего весь день с моих рук. Я переспрашиваю брата о каждой мелочи, а он с удовольствием рассказывает свои веселые рассказы, и мы заканчиваем разговор заполночь, таки не добравшись до Голландии, Италии и Японии.
Но в этот раз все было иначе. «Ракета» причалила к зеленому дебаркадеру-пристани, когда солнце клонилось к далекому горизонту и, отражаясь от глади вод, слепило глаза нестерпимо яркими бликами. Я прошел вечереющими лугами к Кудьме, и перевозчик, услышав, что я приехал один, с печалью свернул свои удочки и молча переправил меня на другой берег. У самого дома в луче заходящего солнца танцевали роем золотых блесток комарики-толкунчики. Брат вышел встречать, но выскочивший вперед него Бес прыгал вокруг меня так, что нарушил всю церемонию приветствия. Потом он бросился в кусты, выкопал из земли давно зарытую кость и принес мне, все еще прижимая от радости уши плотно к голове.