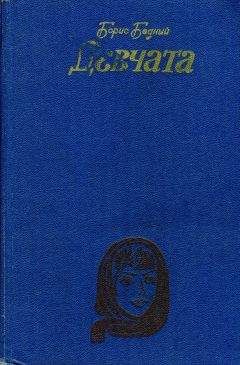Но Юрка его легонько оттолкнул.
— Лопатой землю рыть, а не по шее бить. Пора бы знать.
Товарищи Егора глядели с любопытством. «Интересно, что получится? Не может того быть, чтоб Егор уступил». Оставив лопаты, подходил народ с других участков.
— Ну, чего собрались? — зло оглянулся Егор.
— На тебя, дурака, любуются. Вот что: не хочешь работать — уходи! Без тебя справимся. Плохую траву с поля вон. — Юрка надвинулся на него.
— Но-но! — Егор шагнул назад. — Это ты иди отсюда. Добром прошу — не лезь.
— Не хочешь сам идти, под ручку выведу. — Юрка протянул руку.
— Уб-бью-ю! — Лопата взлетела над головой Юрки.
Но Юрка схватил его за локоть. Егор сморщился от боли. Вынув из его рук лопату и отбросив в сторону, Юрка оглянулся на собравшихся.
Все смущенно зашевелились.
— Видите занозу? Мешает. Что с ним делать? — спросил Юрка.
Рослов ехидно подсказал из-за спины Юрки:
— Горяч парень. В реку бы… Пусть чуток охолонет.
— В реку? Верно! Ну-ка выполощем дурь из головы.
С красным перекошенным лицом Егор старался выкрутить руку, но Юрка, притянув к себе, как ребенка, сгреб его в охапку; чуб Егора уперся в колени, а сапоги с заломленными голенищами уставились в небо подметками.
В толпе кто-то крякнул от удивления, кто-то из девчат охнул, кто посмелее — откровенно засмеялся, а Юрка, откинувшись назад, потащил Егора к реке. Перед самой водой Егор закричал:
— Пусти-и!..
— Обожди, друг, обожди.
Как был в ботинках и в брюках, Юрка по пояс зашел в реку и погрузил в воду Егора.
— Проси у народа прощения. Проси прощения за свою глупость. Проси!
Через минуту, в обвисшей, тяжелой от воды одежде, с облепившими голову и лицо волосами, Егор сидел, отплевываясь и сморкаясь, на берегу.
— Помогло ведь, послушный стал! — наивно удивился какой-то парень.
И эти слова разрядили оцепенение, толпа заколыхалась, хохот покатился по реке.
— Обожди, — обиженно пошмыгивая носом, забормотал Егор, — мы еще встретимся… Я еще тебе припомню.
— Да мы с тобой теперь и расставаться не будем. Эй! Дайте кто-нибудь ему сухие портянки да лопату тащите. Пойдешь ко мне в звено, со мной вместе будешь работать.
В это время торопливым шагом подошел молодой инженер, остановился, оглядел собравшихся, вынул изо рта трубку.
— Что тут такое?
— Жарко, купались вот, — нехотя ответил Юрка.
Инженер с недоверием покосился на мокрого, вытряхивающего из сапога воду Егора и обернулся к стоявшему поблизости прорабу:
— Что здесь вышло?
Прораб, пожилой мужчина, свертывая цыгарку, серьезно подтвердил:
— Купались. Ребята молодые, не грех и побаловаться.
Через полчаса Егор, голый по пояс, вскапывал лопатой землю вместе с Юркиным звеном. Юрка, привычно сгибаясь и разгибаясь, усердно махал лопатой.
— Ну, как там идет? — крикнул Юрка пробегавшему мимо Рослову.
— Стараются люди, — ответил тот и хитро подмигнул на Егора.
Вечером за чаем старуха Паникратова ворчала на сына:
— Опять потищем разит. За лопату хватался? Нужда-то какая? Мало без тебя, что ли, работников?
Но не из желания помочь работал Федор. Скинув пиджак, засучив рукава, махать тяжелой грабаркой до тех пор, пока по спине от ворота до пояса рубаха не прилипнет к телу, вогнать в пот других, вызвать удивленную похвалу: «И как ты, Федор Алексеевич, в кабинетах такую силенку насидел?», потом жадно припасть к реке, пить теплую, чуточку пахнущую хвостецом воду — все это на целый день оставляло в душе ощущение прочного счастья, от которого хотелось с каждым встречным, знакомым и незнакомым, заглядывая ему в глаза, поделиться: «И до чего, братец ты мой, жизнь хороша!»
На этой же неделе Федор приехал на Важенку посмотреть, как идут дела в бригаде Якова Шумного, и, по обыкновению, проработал у него до обеда. А перед самым перерывом на обед Яков отозвал его в сторону и развернул на земле большой кумачовый плакат. На нем выведены три слова: «Обгоним бригаду Левашова!»
— Хотим вывесить, Федор Алексеич.
— Гм… А не прохвастаем?
— Надорвется Левашов, ежели обгонит.
— Вывешивай!
И вот над участком бригады Якова Шумного на двух длинных шестах, вбитых в землю, то надуваясь дугой от легкого ветерка, то опадая, появился плакат: «Обгоним бригаду Левашова!»
Паникратов взобрался на перекинутые через рукав тачечные мостки, сорвал с головы кепку и крикнул столпившимся вокруг него былинцам:
— Товарищи!
И это «товарищи» разнеслось по стройке, заставило всех оглянуться.
— Былинцы митингуют!..
Не узнать, о чем митингуют былинцы, нельзя, все бросились на голос Паникратова. И вокруг плаката за какую-нибудь минуту выросла плотная толпа.
…Роднев еще утром выехал на стройку, но, как всегда, в одном колхозе заглянул на поля, в другом — поинтересовался ремонтом школы и только к полудню подъезжал к берегу Важенки.
Пекло солнце. Игнат Наумов даже по самым разбитым дорогам водил машину — не подкинет, не тряхнет, а только, как на море при легкой волне, мягко покачивает. И Роднев клевал носом. Но вдруг покачивание усилилось, раз, другой тряхнуло, — Роднев поднял голову. Игнат, что с ним очень редко случалось, дал газ.
— Что такое? — спросил Роднев.
— Шумят, — коротко ответил Игнат.
Машина выскочила на гребень берега, развернулась и остановилась. Когда Роднев, осыпая из-под сапог мелкий камешник, стал спускаться по откосу, крик стих, и над головами людей, над водой, над изрытыми берегами, над сонно стоявшими грузовичками и тракторами зазвучал сильный голос. Роднев только тут узнал его — это был голос Паникратова.
Не замеченный никем, Роднев подошел и пристроился сзади. Рядом с ним, вытягивая жилистую шею, стоял Степан Груздев, глядел поверх голов на Паникратова и с изумленной растерянностью приговаривал:
— Эх, мать честная! Слышь, Дмитрий? Сгреб народ, как лопатой, и держит.
Но Спевкин, стоявший рядом, не слышал его.
Паникратов, простоволосый, краснолицый, в одной нательной рубашке, распахнутой на груди, стоял и открыто, весело, доверчиво смотрел на народ, опять ждал тишины, но тишина не наступала. Тогда он нетерпеливо повел плечом, и этого было достаточно, чтоб общий гул рассыпался на отдельные выкрики. Паникратов поднял руку, и все стихло.
— Так я ж сказал, товарищи: былинцы обещают! Но обещают — не значит выполнено. Левашовцы могут обогнать!..
— Правильна-а! Берегись! — обрадованным голосом закричал Спевкин.
— Левашов еще покажет кузькину мать!
— Зарвался ваш Левашов!
— Пока-ажет!
И голоса вновь смешались. По всему видно было, что Паникратов слушает этот задорный гам с радостью, с наслаждением.
Вечером около костра сидели Груздев, Спевкин и Саватьева. Спевкин умел мастерски печь картошку, так что с нее можно совсем снять тонкую сморщенную кожицу, под которой была хрустящая румяная корка. Сейчас он с плачущим от дыма лицом шевелил в углях сучком и слушал, как Груздев вслух раздумывает, кого бы послать на Былину расшевелить бригаду Левашова.
— Паникратов-то молодец — дал духу своим. Как бы Юркины люди не застряли там, на Былине…
— Степан, — твердо говорит Саватьева, — сам съезди. Делал же намедни в колхозе доклад.
Спевкин выкатал из углей картошину, стал ее перебрасывать с ладони на ладонь, дул и поглядывал на Груздева: «Согласится или не согласится?.. Нет, пожалуй, не рискнет. Да и то сказать, в своем-то колхозе все сойдет, а тут — в чужие люди».
Но Груздев, еще раз вздохнув, согласился:
— Видно, придется, больше-то некому.
Пришли новые машины — новое событие в районе, новая работа в райкоме. Совещания бюро, совещания партактива, протоколы, решения, утряски, увязки, бесконечные телефонные звонки. Укомплектовали кадры, закрепили бригады механизаторов за колхозами, наметили соревнование… Улыбаясь, подсчитывали, сколько людей заменит каждый комбайн, — сила пришла в район; по цифрам выходило, что через год-другой чуть ли не в рай земной должен превратиться Кузовской район!..
И вот, изгибая шею, роняя хлопья пены на пыльную дорогу, остановился запряженный в пролетку жеребец перед райкомовским крыльцом. Трубецкой со снопом подмышкой, перескакивая через две ступеньки, взбежал наверх к Родневу.
— Первый сноп! Прошу любить и жаловать!
Началась уборка.
Дня через три после этого Паникратов обходил поля.
Искрилась на солнце стерня, то там, то тут по всему полю разбросаны копны соломы. Поле маленькое, плотным кольцом его обступили темные сосны. Как два ручейка около пруда, с одного конца в поле входит, извиваясь меж сосен, узкая дорожка, с другого выходит, такая же узкая, извилистая, вся переплетенная грубыми корневищами, засыпанная хвоей, кое-где с глубокими колеями и вымоинами, оставшимися еще с весеннего половодья.