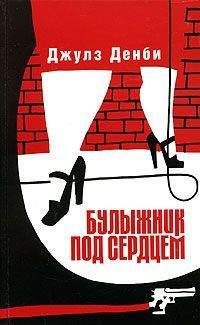Костя часто впадает в тяжелую меланхолию. Он становится гневным и безжалостным и в это время может уничтожить все, что попадет ему в руки. Вывести его из состояния разрушительной подавленности очень трудно. Вот и сейчас он впал в такое состояние. Костя сидел, опустив голову на руки, и смотрел в пустой стакан.
Я вытащил из папки его рисунок. Он с удивительным сарказмом изобразил, любопытствующую толпу — настоящий человеческий зоопарк: человек-заяц, человек-бык, человек-волк, человек-баран, человек-воробышек… В людях легкими штрихами были намечены прототипы животного мира. Мне стало смешно. Я смеялся. Костя скучно на меня глянул, скосив глаза, но не двинулся.
— Слушай, это удивительно! — восторгался я. — Это смешно! Это по-настоящему смешно!
— Так думаешь? — спросил он.
— Да что тут думать? Я смеюсь! Слушай, это удивительно! А кто же я?
— Ты ирландский сеттер, — сразу ответил он.
Видно, давно уже определил мое сходство. Но я удивляюсь:
— Почему сеттер? Почему ирландский?
Он молча встает, подходит к старинному книжному шкафу, красиво отделанному замысловатой резьбой, и достает «Энциклопедию животного мира». Полистал и открыл картинку рыжего грустного пса, довольно симпатичного. Возможно, во мне есть какое-то с ним сходство. Я нисколько не возражаю. Мне весело. «Гав-гав!» — смеясь, лаю я и спрашиваю:
— А душа у меня собачья?
— Может быть, и собачья.
— Ну в каком хоть смысле? В смысле преданности? — смеюсь, не могу успокоиться я.
— Не знаю, — бормочет Костя и вдруг зажигается: — Вот прихожу в бухгалтерию. В большой комнате только женщины, человек десять. Одна — корова, другая — крыска, третья — квочка, а главная бухгалтерша — волчица. Для меня картина ясна. Корову можно убедить лаской, комплиментом — не взбрыкнет. Крыску? Даже когда у тебя абсолютная правота, все равно зубки покажет: лучше обойти. Квочку? Та настолько озабочена деловым навозом, что и не поймет, о чем просишь. Только и будет кудахтать: «Не могу! Потом!» А волчица? Ей надо что-то в пасть, самую безделицу, но обязательно, и хвалебно-признательные словеса — смилостивится, и сразу решишь свою проблему. — У Кости в глазах мучительное страдание. — Лешка, часто не могу смотреть на человека. Рука тянется изобразить его суть, непривлекательную суть, понимаешь?
Костя встает, снимает со шкафа огромную, тяжелую папку, кладет на стол.
— Смотри!
— Что это?
— Иллюстрации к рассказам Зощенко.
Это удивительная графика. Удивительно смешная! Как рисунок любопытствующей толпы в бане. Ну что за талант в человеке! Я в восторге.
— Меня давно тянуло проиллюстрировать Зощенко, — поясняет Костя, вновь наливая себе в стакан водки. — Стал вчитываться в него, и вот это пришло.
— Костя, почему раньше ты мне этого не показывал?
— А кому, Лешка, это нужно? — сумрачно спрашивает он. — Ведь ругать начнут: пошлое зубоскальство! противоречит Зощенко!
— Наоборот, прекрасное дополнение, — возражаю я.
— О, брось, Лешка! — не соглашается он.
Властная женщинаВ дверь кто-то стучит, и она открывается: в комнату входит модно одетая женщина. Костя сердито-испуганно глядит на нее, вскакивает, хватает папку и судорожно завязывает тесемки. Он торопливо кладет ее на шкаф.
Во взгляде женщины спокойная властность. Она снимает темно-зеленое кожаное пальто и небрежно бросает на диван. Ведет она себя уверенно, даже с вызовом, будто хозяйка здесь. Смущенными выглядим мы. Она протягивает мне руку:
— Антонина…
— Алексей, — бурчу я.
— Вы тоже художник?
— Да.
— Посмотри, как он рисует, — вдруг заискивающе говорит Костя, суетливо схватив ватманский лист с Кузьмой Михайловичем.
Я не узнаю его. В нем торопливая оправдательность провинившегося мальчишки.
— Опять банная серия? — со снисходительным сарказмом замечает Антонина. — Однако недурно.
— Простите, что недурно? — недружелюбно спрашиваю я.
Она мне не нравится. Раздражает своей самоуверенностью, снисходительностью. Я в принципе очень терпим к людям, к их недостаткам, но едва переношу заносчивость и высокомерие. А эта даже подчеркивает свое непонятное превосходство над нами. Я мрачнею. Она мгновенно улавливает это и тут же меняет тон, манеру держаться. С улыбкой говорит мне:
— Разве вас что-то обидело?
— Может, и обидело, — бурчу я.
— Тогда простите. А рисунок мне нравится — убедительный. Особенно хороши эти руки. Как корни дерева.
Она говорит медленно, произнося каждое слово четко, как произносят их, читая стихи. Прищурившись, не моргая, она смотрит мне в лицо, именно в лицо. В ее взгляде холодная проницательность.
Меня поражает то, что она сказала: «руки, как корни дерева». Это именно то, что я думал, когда рисовал Кузьму Михайловича. Но об этом никто не мог знать, кроме меня! И мне начинает казаться, что она читает мои мысли.
Ощущение настороженности и неприязни крепнет во мне. Я просто чувствую, как она подчиняет. И в то же время не нахожу в себе желания и умения сопротивляться. «Что за дьявольщина!» — думаю удивленно.
Антонина привлекательна — и лицом и фигурой. Лицо, правда, скуластое. Вообще красота ее какая-то холодная, какая-то сделанная. Замечаю, что она умело пользуется косметикой, причем на западный манер. Она действительно какая-то другая, как бы оттуда. У нас таких не часто встретишь. В общем, как говорят, шикарная женщина. И я понимаю, что Костя не мог пройти мимо, раз она соблаговолила выделить его среди других.
— Костик, а ваша квартирная Люська, — говорит она с презрением, — ко всем тебя ревнует или только ко мне?
— С чего ты взяла, что она ревнует? — выражает недоумение Костя.
— Вижу и чувствую. Это трудно скрыть, — расставляя слова, четко произносит Антонина. — Но ты, пожалуйста, скажи ей, что не обязательно это мне показывать. Вы уж, как-нибудь сами разберитесь в своих отношениях.
— В каких отношениях? — спрашивает Костя, и я замечаю, что он прячет глаза.
— В ваших личных, Костик, — твердо настаивает Антонина. — Я думаю, что ясно выражаюсь.
Костя насупленно молчит. Нет, не нравится она мне. Не узнаю Костю. Почему он ей подчиняется?
Антонина достает из сумки золотисто-красную пачку заграничных сигарет. Такой я еще не видел — «Dunhill». Умело прикуривает от пламени миниатюрной зажигалки. Я пристально за ней слежу, как прилип к ней. Мне противно это сознавать. Но она притягивает. Властная женщина.
Костя сумрачно спрашивает:
— Опять твой англичанин приехал?
— Да, приехал, — с вызовом отвечает Антонина.
— Опять за иконами?
— Нет, почему же? Он интересуется не только ими, но и современной живописью. — У нее на лице презрительная усмешка. — А чего же ты мне не предлагаешь шампанского?
— Не ждал я тебя.
— Но мог бы держать про запас, не так ли?
— Давайте я схожу в магазин, — предлагаю я. Мне кажется, у них назревает скандал. И вообще я чувствую себя лишним. Решаю, что схожу, а потом сразу уйду.
Они не возражают.
Когда я возвращаюсь, Антонина с повышенным интересом вглядывается в меня. Мне это не нравится.
— А вы, оказывается, непризнанный талант, — говорит мне сочувственно.
— Когда-нибудь признают, — бурчу я.
— Но вы же не хотите, чтобы это случилось после вашей смерти? Правда ведь, этого никто не может хотеть? Покажите мне ваши картины.
— Не хочу, — по-мальчишески просто и с вызовом говорю я.
— Но почему же? — удивляется она. — Я ведь искусствовед. Мне хотелось бы вам помочь.
— Спасибо. Когда-нибудь потом.
— Ну зачем же откладывать на «потом»? Покажите завтра.
Костя саркастически замечает:
— Не хочешь ли, Лешка, в Лондоне выставиться?
— В каком еще Лондоне? — не понимаю я.
— В самом что ни на есть настоящем, — мрачно поясняет он.
— А я ведь серьезно, — настаивает Антонина. — Покажите завтра.
— Не хочу, — твердо говорю я.
— А зря, Купреев, — как бы угрожает она. — Потом пожалеете.
— Может быть, — говорю я.
Я встал, распрощался и ушел.
В коридоре меня перехватила Люси́на.
— Алексей, одну минуточку, — шепчет она. — А правда, что Костя любит эту фуфру?
— Кого? — не понимаю я.
— Ну, эту мадамочку, которая к нему вязнет.
— Не знаю, Люся, — пожимаю плечами.
— Ты-то по-дружески скажи ему, — просит Люсина, — не даст она счастья! Эти фуфры только несчастье приносят. А Костя просто дурак! — Она воскликнула с такой искренней болью, что я невольно подумал: не влюблена ли? И действительно — о каких это отношениях выговаривала Антонина?
Ах, да что мне до всего этого! Пусть жизнь движется по своим таинственным законам, а мне уже ничего не надо — ни помощи, ни участия, ни признания. Может быть, еще немножко любви? И немного творчества — его радостей и завершающего удовлетворения. А потом пусть сердце останавливается: мне все равно!