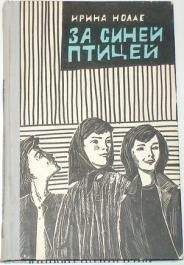«Если Максютиха, — значит, здесь без Гусевой не обошлось».
— Тетя Васена, а она у стола сидела или по бараку ходила?
— И ходила и сидела. Спрашивала, где кто спит. Где бригадер — тоже интересовалась. Только я ей от ворот поворот дала. Ты, говорю, хоть и божественный человек, но если в гости пришла, то сиди и разговаривай у стола, как полагается. А по бараку шнырять нечего. Про бога своего девчонкам рассказывать и не думай. Они все неверующие, и если при тебе бога помянут, то таким словом, что из тебя начисто весь дух выйдет. Она опять свое: где бригадерка, почему у нее койка не разобрана. Я ей говорю тогда: «Како твое собачье дело, мотайся отседова, дырочница, пока дежурного не позвала… Еще сопрешь что-нибудь, а я отвечай». Спровадила… А это у тебя что? — кивком головы Васена указала на записку. — С дому, что ли?
— Черт те что! Тут сразу и не разберешь, что пишет и кто пишет. — Марина с досадой скомкала записку и хотела швырнуть в ящик для мусора.
— Подожди, бригадир! Это от кого тебе?
К Марине сзади подошла Маша.
— Какой-то идиот… Не то в любви объясняется, не то угрожает смертью.
— А ну-ка, дай сюда. — Маша поправила наброшенный на плечи платок — она была без блузки, в тапочках на босу ногу, видимо встала с постели. — Ин-те-рес-но… — Маша прочитала записку и аккуратно сложила ее. — Интересно, — повторила она. — Откуда такой взялся?
С ближней к столу койки раздался шепот:
— Ниоткуда он не взялся. Липа это… Я уже все узнала. Идите, я вам расскажу. — Клава Смирнова села на постель и поманила рукой Машу и Марину. — Нет у нас такого Лехи Птенчика, — возбужденно блестя черными глазами, зашептала Клава. — Нет его, понятно?
— А кто же есть? — удивленно спросила Марина.
— Этого я не знаю. А Лехи нет. Все это липа.
— Подожди, Мышка, — слегка нахмурилась Маша, — а тебе откуда про записку известно?
— Известно… — Клава хитро улыбнулась.
— Думаешь, это хорошо — чужие записки читать?
— Ничего я не думаю, хорошо или плохо. Шныряла здесь эта «дырочница», туда-сюда сунется, а мы думали, это она нас ищет — права хочет нам предъявить. Ну и видим: подходит к Маришкиной койке и что-то под подушку сует…
— А тебе какое дело до чужой койки?
— Вот еще — чужая! Нашего бригадира, а не чужая… Мало ли что она сунет под подушку…
Маша усмехнулась:
— Пулемет, что ли?
— Что ты из меня дурочку делаешь? — Клава рассердилась и натянула одеяло на голову. — Не буду разговаривать, — глухо проговорила она из своего укрытия.
— Ну ладно… Спи… Какая принципиальная. — Маша нагнулась и потрепала через одеяло Клавины плечи. — Пошли, бригадир, — шепнула она Марине. — Потолкуем. Иди на крыльцо, я оденусь…
Марина вышла на крыльцо и облокотилась на деревянные перила. Она не думала о полученной записке. Она думала о том, что завтра надо закончить обмазку барака к зиме и что, слава богу, целая неделя прошла благополучно. Бригада работала, и хотя выработка не превышала ста пяти процентов, но теперь Марине не приходилось с тоской смотреть на доску показателей, где она никогда не надеялась прочесть против своей фамилии не только трехзначную, но даже и двухзначную цифру. Первые дни было много брака, и Вартуш сердито трясла уродливыми варежками перед лицом провинившейся.
— Стыдно, ай как стыдно! Кому вязала — думала? У тебя на ногах ботинки, один правый, другой левый, верно говорю? А тебе завтра дадут ботинки на одну ногу — как ходить будешь? Боец стрелять должен — варежка на руке чтобы не мешала, как без варежки чтобы рука была. А ты как вяжешь? Не принимаю такую работу! Иди садись в тот угол, снова работай! Чисто работай! Для бойца!
Марина улыбнулась, вспомнив «тот угол». Это был небольшой закуток между печкой и стеной, где с трудом можно было поставить табуретку. Когда организовался этот «штрафной угол», ни Марина, ни Маша не заметили. Но только первые дни в этом углу и возле него уныло сидели на своих табуретках некоторые члены бригады номер четыре, распуская и вновь надвязывая бракованную свою продукцию.
Маленькая армяночка, которую девчонки ласково называли «Варя-Варечка», оказалась не только энергичным и требовательным инструктором по вязанию варежек — она помогала Марине всюду и везде. На второй день после истории с украденными у Нюрочки варежками Марину вызвала в контору нарядчица и сказала ей, что ее бригада обязана принимать участие в «аврале» — обмазывать и утеплять к зиме барак, где они помещаются. Марина сказала: «Хорошо», но в глубине души знала, что ничего хорошего из этого не получится: девчонки ни за какие коврижки не пойдут авралить. Она не ошиблась.
— На кой нам леший сдалась эта глина? — ворчали они. — Не нам здесь жить — не наша забота.
И в первый вечер ни одна не вышла из барака. Марина сказала:
— Ну и шут с вами, сидите. Обойдемся без вас. — И пошли вдвоем с Машей.
Работа была несложная. Только сначала у Марины ничего не получалось — глина, которую она старательно размазывала по стене, сползала вниз и отваливалась. Подошла Маша — она работала за углом у другой стены, — посмотрела и неодобрительно качнула головой:
— Ох ты чадо мое… Да ведь надо сначала водой смочить… Я думала, ты хоть это знаешь!
Потом все наладилось, и Марине даже понравилась новая работа. А Маша весело покрикивала из-за угла:
— Давай на соревнование! Кто скорей кусок закончит!
Соревноваться с Машей Марине было не под силу, но все же она бодро откликнулась:
— Давай, давай!
Выглянув потихоньку из-за угла минут через десять, она увидела, что Маша далеко ушла вперед, и хотела уже признаться в полной и безоговорочной своей капитуляции, как вдруг кто-то тихонько дернул ее за юбку.
— Тихо, Марина-джан! Мы сейчас с тобой ей устроим… — сияя лучистыми глазами, прошептала Вартуш. — Опоздала я, в контору ходила… Подхожу к бараку, слышу, Маша кричит: давай соревноваться! Хитрая какая Соловей! Иди сюда скорее…
Вартуш подбежала к большому квадратному корыту, где был замешан раствор, взяла глину в пригоршню.
— Ай-ай-ай, какой ишак замешивал? Зачем такая густая? — и добавила в корыто воды. — Вот теперь хорошо будет! — удовлетворенно сказала она, ловко перемешав раствор лопатой. — Ты давай здесь работай, а я туда пойду, чтобы Маша не видела. Ты вот как работай: взяла раствор, положила на стенку, дощечкой туда-сюда, чтобы ровно было, а потом руки в воде замочи и опять туда-сюда. Поняла? Красиво будет, тепло будет. Комендант скажет: «Хорошо сделали, девушки».
Теперь стало совсем легко. Глина ложилась ровным слоем, и было приятно сглаживать ее дощечкой и смоченными в воде руками.
Марина уже предвкушала победу над Машей и улыбалась, представляя удивленное лицо своей помощницы, когда она увидит, сколько сделано с этой стороны барака. Работа увлекла ее, и она даже стала напевать вполголоса: «Капитан, капитан, улыбнитесь!» Но вдруг с досадой оборвала себя: опять капитан! Хотела было запеть другую, но, как назло, ничего другого, кроме «капитан, капитан, улыбнитесь», ей на память не приходило, и чем упрямее она старалась вспомнить что-нибудь другое, тем навязчивее вертелся в голове этот мотив и слова о капитане, который должен все-таки улыбнуться.
— Так, значит, вот какая ты честная! — услышала она за своей спиной ехидный голос Маши. — На пару работаете?
Подошла Вартуш, все трое стали смеяться, вышучивая друг друга. Так и вошли в барак — со смехом, оживленные, забрызганные глиной, раскрасневшиеся от работы и свежего осеннего холодка. А в бараке было сумрачно и скучно. Ни обычного оживления, ни возгласов, ни песен.
Несколько человек сгруппировались возле печки, которую тетя Васена, несмотря на протесты пожарницы, умудрялась потихоньку подтапливать украденными из столовой дровами. Пожарница — высокая, краснолицая и исполнительная — неженским баритоном «пилила» тетю Васену, стараясь внушить ей, что отопительный сезон еще не начался и если Васена не одумается, то пожарница — «завтра же!» — замажет обе трубы барака. Васена безмятежно ее выслушивала, согласно кивая головой, а когда пожарница выговаривалась до конца, спокойно заявляла, что у нее в бараке «малолетки» и морозить их не положено. Марина знала, что тетя Васена удивительно ловко умела использовать некоторые преимущества, предоставленные законом для несовершеннолетних.
На дворе стояла сырая осенняя погода, в бараках было прохладно, и к печке тянулись все. Именно там обычно вели задушевные беседы, пели песни, рассказывали фантастические истории о своих «громких» воровских делах. Там же, у печки, Марина по вечерам читала вслух книги или «рассказывала кино».
Сейчас у печки было тихо. Клава Смирнова сидела на низенькой скамеечке, подперев кулачками щеки, и молчала, вопреки своему обычаю. В такой же унылой позе у ее колен на телогрейке, брошенной на пол, сидели ее подружки — Нина и Лида. Рядом жались к теплым стенкам печки еще несколько человек. Остальные или лежали на койках, или разместились небольшими группками в разных углах барака.