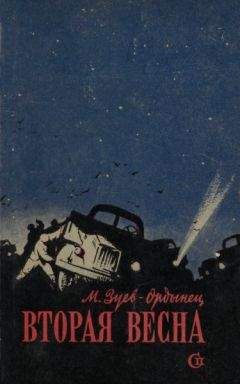— Доложите, какие это вы опыты проделываете? Я “доложил”. Потом увлекся и рассказал ему о своей “золотой цепочке”. Он криво усмехнулся:
— Молодо-зелено! Сколько небось на свою затею человеко-дней растранжирили, сколько горючего сожгли.
— Вы же знаете, совсем пустяк. А сев будут проводить конными сеялками ученики старших классов колхозной школы.
— Наше дело — планы, приличные урожаи, севообороты, — показал он на аккуратно вычерченную карту севооборотов, висевшую на стене. — А целина, это…
— Целина поможет нам…
— Целина поможет мне потерять партбилет, — холодно перебил он меня. — Есть у вас, казахов, поговорка: стриг шайтан свинью — визгу много, а шерсти нет. Не будет казах со свиньей возиться, и хлеб растить — не его дело. Казах — овцевод. И с нас животноводство в первую очередь спрашивают. А зерно, это уж как бог пошлет.
— Поголовье овец в районе уменьшилось. Как ваш куст?
— При моем предшественнике было плохо. Но я это быстро выправлю.
— Каким образом?
— Главное для животноводства что?
— Кормовая база! — обрадовался я. — На этом ките и держится животноводство.
— Очень хорошо сказано! Корма — кит! Вот я и приказал сеять на “зеленку” пшеницу и просо. А для будущего года у меня будет засеяна на зеленую подкормку озимая рожь.
— Но ведь можно же на “зеленку” целину распахать! — не вытерпел и возмутился я.
Он тоже заметно разозлился.
— Вообще не ко двору нам ваши выдумки. На целине зубы обломаешь! И не только бороньи. У ваших певцов-акынов есть длинные-длинные песни. Кюй, кажется, называются? А с целиной песня еще длиннее будет. А у меня раз-раз — и готово! Оперативность!
— Пахотный клин на выпасы! Значит, время назад пошло? — поднялся я. — Так делали монголы, завоевав страну земледельцев.
Я поклонился и пошел к дверям. Вдогонку мне донеслось недружелюбное:
— Работаешь мало, а говоришь много! Видели мы таких беспокойных!..
Мне захотелось хлопнуть дверью, аккуратно обитой клеенкой.
Не бреду ли я по степи, по размокшим солончакам и глине? Одну ногу вытащишь — другая увязнет. А равнодушные, с холодной кровью, на это и надеются. Взглянут на тебя, как гоголевский Вий, своим мертвящим взглядом и ухмыльнутся: “Видели мы таких беспокойных! Смирятся и эти. Надоест топтаться на месте, плюнут и откажутся”.
— Не откажемся! Протянется по степи моя золотая цепочка. Не велики будут ее звенья, но это звенья нового».
Борис положил ладонь на тетрадь Темира и благодарно погладил страницу. Его молодую, необмозоленную еще душу пленяла твердая, рассчитанная на долгие годы решимость, стойкость и непреклонность Темира. И не только это пленяло и даже — восхищало. Его, журналиста, мечтающего стать писателем, удивляла манера письма агронома Темира Нуржанова. Борис чувствовал даже профессиональную зависть. Темир писал по-русски, но словно переводил с казахского, сохраняя присущую востоку метафоричность, цветастость и орнаментальность.
Борис перевернул страницу. На следующей было написано:
«Сев, конными сеялками, провели целиком ученики старших классов местной школы. Это идея Рамазанова. Они же известили меня о первых всходах. Сегодня утром прискакал, за восемь километров, мальчишка на неоседланной лошади. Еще издали он кричал:
— Товарищ агроном, суюнчи, суюнчи![15]
По его словам, после ночного дождя всходы поднялись густые, ровные.
Я попал на поле вечером. Под низкими красными лучами лежала наша нива, чистая, без соринки. Она отдыхала, пробившись из земной тьмы к солнцу. На дальнем ее крае раздавались звонкие голоса учеников. Они о чем-то спорили, то и дело указывая на поле, но спорили не раздраженно, а весело и воодушевленно.
И вдруг большая, яркая мысль озарила меня. Плуг, перепахивая целину, перепашет и жизнь этих мальчуганов. Возможно, эти мальчишки и есть те будущие Колумбы, что, бросившись отважно в океан бесплодных степей, откроют в них материк плодородия. Их труд и подвиг, осознанные и одухотворенные мыслью о счастье народа, создадут им характеры сильные, честные, обогатят их желаниями высокими, чистыми и благородными, в которых не будет места чувствам корыстным, завистливым и злым.
Замечательно сказал русский ученый: “Пшеницу рассматривать без человека нельзя”.
На хлебных нивах будут решаться многие человеческие судьбы. Придет конец степной запазухе, захолустью экономическому, культурному, духовному, всякому!
А оно есть, есть еще в моей степи, это захолустье. И очень крепкое! Как вот этот чернобыльник на меже нашей нивы».
«Созрела наша нива!
Рядом нетронутая целина, желто-серая, обожженная, пустая, и только кузнечики прыгают там крест-накрест. А на той же целине, но облагороженной трудом человеческих рук, густые и тяжелые колосья. Они ребячливо толкались, сцепляясь в жаркой тесноте, и мне хотелось потрепать их, как сынишку, за вихры. Около них пахло не лекарственной горечью полыни, не пылью пересохших трав, а хлебом, теплым, сытным, только что испеченным.
Хорошие слова слышал я у русских колхозников:
— Хлебушко-батюшка!..
О, великое счастье трудных дорог!»
Где-то в глубине дома раздались негромкие, заглушённые голоса. Потом голоса стали слышнее — говорившие вышли в переднюю.
— Ни пуха ни пера, Курман Газизыч, — сказал директор сиплым со сна голосом. И добавил резко, вкладывая в слова жесткую силу приказа: — А без дороги не возвращайтесь, слышите?
— Привезу дорогу, — серьезно ответил Садыков.
Хлопнула дверь на улицу, и тотчас на дворе крикнул что-то Кожагул.
— Хазр, хазр, Кожаке![16] — свежо и весело закричал в ответ Садыков под самым окном кабинета.
«И здесь трудные дороги», — счастливо улыбнулся Борис и испугался: неужели уже рассвет? Какая короткая ночь!
Он торопливо перевернул страницу.
«Драться с природой легче. Она противник злой, коварный, но ее удары все же можно предупредить и отвести. А как отвести удар, нанесенный человеком, удар в спину, из-за угла?
Вот как я узнал о несчастье.
Поздно вечером я читал у окна, открытого и незанавешенного из-за духоты. Поднял глаза от книги и увидел широкое и низкое зарево в стороне полей рамазановского колхоза. Зарево сразу поднялось до облаков, охватив полнеба. Отчаянно залаяли колхозные собаки, тревожно заржали лошади, потом закричали, забегали люди.
Все решили, что горит степь, пересохший за лето травостой.
Я бросился на колхозную конюшню, но не успел оседлать лошадь, как примчался вестник беды, опять школьник на неоседланной лошади. И он не кричал: “Суюнчи!” Он кричал:
— Горит наше поле!
Всю ночь ученики и колхозники метались по полю, сбивали огонь вениками, душили его кошмами, пытались перекопать поле. Но огонь победил. Поле сгорело почти целиком. Пожар начался сразу в нескольких местах, даже в середине поля. Там нашли кусок обгорелой кошмы, пропитанной керосином. Поджог? Да, поджог! Классовая борьба! А наше поле — поле битвы.
Исковерканное, перетоптанное, перекопанное, угольно-черное поле было страшно. И, как всякое пожарище, вызывало отчаяние. “Все к черту, все к черту! — думал я, задыхаясь от кислой, вонючей гари и злых безнадежных слез. — Бежать на станцию, сесть в первый попавшийся поезд и уехать! Бросить все: и мою агрономическую профессию, и мои глупые мечты, и проклятую целину!”
Да, в тот черный день я проклял целину.
Обрывая обгоревшие рукава рубахи, ко мне подошел Рамазанов.
— Не отчаивайтесь, дорогой! И считайте, что я уже с вами. Хорошее дело не сожжет ни огонь, ни злоба.
И он улыбнулся. Хорошо умеет улыбаться аксакал Рамазанов!
— А этих, — указал он на межу, — мы вырвем и растопчем!
Удивительное дело! В двух шагах от горящего поля уцелел чернобыльник. Уцепился за землю сухими стариковскими лапами и затаился.
Никуда я, конечно, не уеду и ничего не брошу. Без меня целина проживет, а я без нее уже не смогу прожить.
И чего я испугался? Со мной аксакал Рамазанов, в обгоревшей рубахе, но улыбающийся, со мной старый чабан, сорвавший кошму с колодца, похороненного баем, со мной колхозники, сказавшие про “святого человека”: “Э, отсталый человек!”, со мной школьники, спорящие на засеянной целине. В такой компании — и на волка и на лису!»
«Ночью приснился страшный сон. Лечу над степью не на самолете, а на каких-то крыльях. У меня выросли крылья! Лечу сто километров, двести, триста, и всюду, глазом не охватишь, стоит пшеница. Море, буквально море! И вдруг вижу: течет на землю переспевшее зерно! Отяжелевшие и подсохшие колосья точат зерно струями! Будто кровь вытекает из моих жил. Я начинаю кричать: “Зерно течет! Давайте машины! Жатки, комбайны, лобогрейки! О аллах, серпы, хотя бы серпы давайте!..”