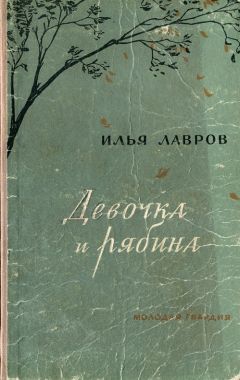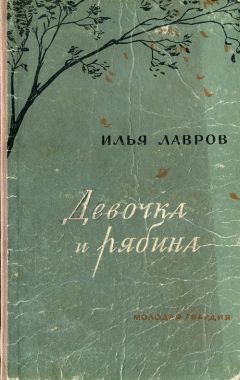— Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец! — лихо протрубил Дальский и, ухнув, окунулся в мутную воду. Струи принесли охапку сена, обкрутили вокруг ног…
— Тебе больше всех надо! — ехидничала с берега Полыхалова. — На дураках всегда ездят!
— Помалкивай в тряпочку! — гаркнул Дальский. — Я ведь волжанин! Тряхну стариной!
Полыхалова и Чайка остались на второй рейс, хотели проверить, чем дело кончится.
На носу и на корме стояли два солдата с шестами. У обоих шоколадные лица и меловые зубы.
Мужчины взялись за борта, и брезентовая лодка тронулась.
И опять перед Алешей открылась чаша, залитая сиянием солнца. И опять по краям ее синели величавые цепи сопок.
Радуга изогнулась ручкой через всю чашу. Один конец был очень близко. Через полосатый, розово-зеленый туман просвечивала опушка и виднелось то место, где радуга упиралась в мокрую траву, пятнистую от ромашек.
И как только Алеша очутился среди всего этого, он почувствовал себя легко, свежо. И так звонко откликалась на все душа, и так ярко видели все прозревшие глаза, и так любило все вздрагивающее сердце. И все чего-то ждало, и все чему-то верило. И такое, оказывается, наслаждение просто идти по земле. Ведь удивительное будущее затаилось где-то там, за сопками, где вечерами струится река золотого света. Туда рвется легкое сильное тело и беспокойное сердце. Но почему-то рядом с этой светлой радостью журчит еле слышимая светлая грусть. Так он чувствовал только в те дни, когда жил по правде, по совести, для людей, а не для себя. Снова душа откликалась на красивое. Он думал, что все на земле, вокруг человека исполнено удивительной красоты. Что это нужно только понять, уловить. А чтобы уловить, нужно иметь чистую душу. С замутненной душой красоту не разглядишь, не услышишь.
На дне чаши неслась, сбивала с ног бурная вода. Ноги путались в высокой траве, поток несся по нескошенному лугу.
Вода доходила по грудь.
Юлинька перегнулась через борт к Караванову, спросила:
— Тебе не холодно?
Он, толкая лодку, улыбнулся и покачал головой.
— Утром я наконец-то дозвонился до пионерлагеря. Ребятишки здоровы. Будь спокойна.
— У меня все сердце изболелось. Скорей бы уж увидеть их, — вздохнула Юлинька.
— Я сам соскучился.
Северов шел сзади и, глядя, как бурлит рассекаемая им вода, все слышал. Алеше стало больно: не с ним говорит она. Тяжело было видеть Юлиньку рядом с Каравановым. Нужно скорей уходить из этого театра, не мучать себя. И в то же время казалось страшным уйти и никогда уже не слышать голос Юлиньки.
В затопленной роще ивняка было особенно опасно. Каждую минуту лодку могло ударить о дерево, опрокинуть. Поток ревел среди стволов, взбивая комки пены. Стихли крики, смех. Даже Юлинька замолкла. Белокофтин побледнел, вцепился в руку Снеговой.
Алеша упирался плечом в борт, не давая лодке мчаться по течению. Ветки, лохматые, с мокрой слипшейся листвой, шлепали по лицу. Ива цвела, пускала пух над водой. Ноги спотыкались о невидимые пни, о кустарник, о корни. Вода крутилась под мышками, как зажатая рыба, бросала в лицо пену, листья, цепляла за шею оторванные ветки и траву. Швырнула захлебнувшегося зайца.
И вдруг дно пропало, все поплыли, лодку понесло. Солдаты уперлись длинными шестами, лица их стали багровыми.
Никиту Касаткина и Воеводу утащило под лодку, выбросило далеко от нее, в том месте, где был затоплен ольховник. Они барахтались в каше из ветвей и листвы.
Внезапно роща кончилась, стало мелко, течение ослабело. Подошли к берегу. Вернее, это был затопленный луг. Из тихой воды, с отраженными облаками, торчали кочки, трава, кустики. До сухого лесистого берега, где стояли грузовики, было с полкилометра.
Женщины подобрали юбки, босые, с чемоданами, зашлепали к лесу. Засучив штаны, поплелся и Белокофтин.
— Знаешь, как это называется? — мрачно обратился к нему Сенечка. — Свинством это называется!
Белокофтин промолчал. Алеша засмеялся.
— Ну и тип! — почти зарычал взбешенный Караванов. — Я его сейчас заставлю весь день работать! — и двинулся следом.
— Подождите! — остановил Алеша. — Ну его к дьяволу! У нас подобралась хорошая компания, а он все настроение испортит одним своим видом!
— И верно! Пусть с глаз исчезнет! — согласился Караванов.
«Перевозчики» уселись в лодку отдохнуть, смывали кровь с разбитых, оцарапанных ног.
— Братцы! Женщины ушли? — раздался жалобный голос Никиты из-за кустов.
— Ушли! — крикнул Сенечка. — А ты чего там?
— У меня трусы сдернуло и унесло!
Касаткин сидел по горло в воде, губы его посинели.
Над рекой прокатился хохот.
— Ну, Микита, вечно ты с фокусами! — закричал Караванов и принялся гоняться за Касаткиным, который визжал по-женски. Воевода схватил его, окунул.
Мускулистый, загорелый до черноты, Воевода казался выточенным из дуба и походил на ловкого подростка. Он все время плавал, с наслаждением бултыхался.
Дальский тяжело и хрипло дышал.
— Сдаю, сдаю. А бывало, на спор пианино мог поднять. И хоть бы что!
Весь день перевозили декорации, ящики с реквизитом, с костюмами. Сложили их среди топи на сухом холме.
На оранжевой полосе зари черная лохматая лиственница выглядела нарисованной. Закат светился между ее ветвями. Это было очень красиво, дико и почему-то тревожно, печально.
Медленно плыли темно-свинцовые облака с алыми гребешками. Ниже их быстро неслось пушистое розовое облачко, а еще ниже, над черными лиственницами, недвижно висела подпаленная закатом клочковатая пряжа.
Северову все мерещился за темными сопками удивительный край с красивыми городами, и сердце рвалось туда. Горло сдавило, глаза стали влажными.
Вот солдаты уплыли. На красноватой полосе резко чернела лодка и две стоящие фигуры. Неслась раздольная песня о Разине.
«Перевозчики» замерзли, комары облепили голые тела. Ушли на сухой берег в лес, оделись.
Алеша, дрожа и улыбаясь, обдирал кору, ломал в темноте сухие ветки с берез. Они стреляли на весь тихий лес. Наконец костер вырвал из мрака сосну и березу с обвисшими до земли ветвями.
Сидели у костра, вытирая носовыми платками и травой мокрые ноги.
В темноте по залитому лугу шлепали, раздавался громкий голос Фаины Дьячок:
— А они обязаны были? Жилы рвались, а переправляли!
Шумя, к костру подошла толпа. Выяснилось, что электрик Пешеходов и его помощник Брызгин не захотели перенести к дороге ящики и декорации. Скавронский попросил их помочь — рабочие сцены уехали с декорациями. Но Пешеходов, здоровый, белобрысый парень с вывернутыми толстыми губами, твердил:
— Это не мое дело. Я электрик, а не ишак! А не нравлюсь — увольте. Меня сейчас же с руками и ногами схватят и мылзавод и кожзавод! Там, если работаешь, так хоть копейку чувствуешь!
— Мы не ишаки! — выкрикивал и Брызгин, сверкая нахальными глазами. Он давно не стригся, жесткие волосы торчали надо лбом и ушами, словно козырек, лезли на воротник.
— Эх, вы! Пошурши я рублем — вы побежите за ним, как собаки за куском. Две души продадите за один пятак! — катился по темным рощам крик Фаины Дьячок. — Вы что, смеетесь? Там одних костюмов на десятки тысяч!
— А мне хоть на миллион! Чихал я с сотого этажа! — Пешеходов, сидя у костра, обувался. — Мне мое здоровье дороже!
— Не мой воз, не мне везти, — бормотал Брызгин.
— А зачем согласились ехать с нами?
— Мы не собирались сидеть раками в болоте.
При виде этих парней у Алеши сразу же исчезло то взволнованное, счастливое настроение, которое весь день заставляло все видеть вокруг необыкновенным.
— Чего это вы ломаетесь? — вскочил он, с ненавистью глядя на Пешеходова.
— Вас это не касается! — огрызнулся тот.
— Как это не касается? Там не дядино имущество!
— Вы понимаете, что говорите? — вмешался Караванов. — А ну-ка, вставайте! И мы поможем!
Из леса вышел Дальский, затрубил:
— Вы это, ребята, бросьте! В коллективе живете, а не в берлоге! Люди, а не волки!
— Не пойдем!
— Не ишаки!
Пешеходов и Брызгин легли у костра, закурили.
— Где ваша совесть? — изумился Воевода.
— Пусть на все четыре стороны катятся! — Северов подвернул до колен штанины, ушел в темноту. За ним двинулись все «перевозчики».
Дьячок побежала в лес — рядом находилось подсобное хозяйство. Нужно было взять лошадь и перевезти имущество к грузовикам.
Алеша с Никитой несли ящик. Грязь чавкала, мокрая трава мела по голым икрам. Оступались в невидимые промоины, ямы.
В темноте вокруг тащили декорации. Северов слышал звучное: шлеп! шлеп! Неожиданно ящик в руках его сильно дернулся, плюхнулся одним концом в воду. Касаткин стоял на четвереньках, изрыгая хулу на весь белый свет. Алеша трясся от хохота.
— Эй вы, черти! Чего там вытворяете? — крикнул из темноты Воевода.