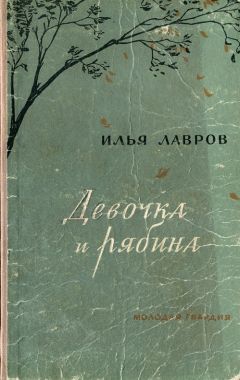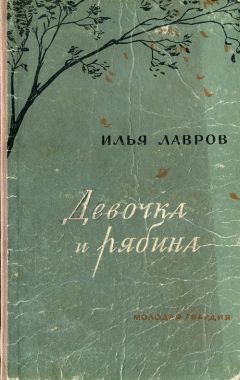— Касатка искупалась! Жарко деточке стало, хоть и без трусов, в одних брюках!
— Эх, молодежь! — назидательно проговорил из-за кустов Дальский и охнул. Что-то затрещало, плюхнулось.
— Кажется, и мне стало жарко! — закричал он.
Грянул общий хохот.
Алеша с удивлением почувствовал — нет усталости. Весело оттого, что весь день работал. Не за деньги, не для себя. И дороги сейчас эти замерзшие, намокшие «перевозчики».
Испуганно кричала в лесу какая-то птица. Тыркал в траве коростель. Молодо пахло сосенкой, землей, грибами, мохом, гниющими старыми листьями. Могуче и ровно гудела вода.
Алеша почему-то начал торопливо, почти шепотом рассказывать Касаткину о драге, о Кудряше, который смерти не боится, о лесосеке, о работе вальщиков и о том, как не нравилось Осокину, когда мухи садились на розу.
Они отдыхали под огромной сосной. Вершина ее тонула во мраке. Касаткин закурил, поднес горящую спичку к лицу Алеши, серьезно спросил:
— Кто ты: чудак или умница?
— Слушай, Никита! Искусство начинается там, среди людей! — волновался Алеша. По лицу его ползали тени и блики света.
— Никто с этим не спорит! — Касаткин бросил спичку, замахал обожженными пальцами, лег на пружинистый толстый ковер из опавшей хвои и шишек.
Алеша привалился к сосне. Ствол ее был теплый, как тело человека.
— Но все это опять как-то по-твоему… Это же наивно! Какое-то хождение в народ! Выходит, всем актерам нужно бросать сцену и на год подаваться штукатурами на стройку?
Теперь уже закурил Алеша и поднес горящую спичку к лицу Никиты. Язычок пламени качался, трепетал на спичке, освещая лица.
— Пускай! Пускай это мальчишеский поступок! Наивный! Но… он для тебя наивный! — горячился Алеша. Волосы всеми завитками валились ему на лоб. — Ты родился в колхозе! Ты работал в колхозе! Ты жил с теми людьми, образы которых сейчас создаешь на сцене. И другие актеры так же понюхали жизнь. — Огонек повалился набок, затрепетал, как флажок, оторвался от спички, сгинул, и сделалось еще темнее. — А ведь я-то родился за кулисами! И вырос там! И жил все время там под крылышком папы! Какие у меня впечатления? — он звонко шлепал по голым ногам, убивая невидимых комаров. — Театр, спектакли, актеры! Актеры, спектакли, театр! Теперь ты понимаешь, что мне, именно мне, а не тебе необходимо потолкаться среди людей? Ты сам посуди, как мне изображать на сцене тех, кого я не знаю? — С сосны упала маленькая шишка, запуталась в Алешиных волосах.
— И ты думаешь, тебе принесет пользу эта жизнь на прииске? — все сомневался Никита. Спасаясь от комаров, он пускал клубы папиросного дыма.
— Обязательно! Уверен! — Алеша хлопнул ладонью по колючей хвое. — Там для художника россыпи… А потом есть еще одна причина… — тихо добавил он и затянулся папиросой. Из тьмы, слабо озаренное, проступило хмурое лицо. — Я не могу больше работать в нашем театре… Видеть… Ну, сам понимаешь, душа переворачивается… А я вижу ее каждый день. Сколько же можно сходить с ума?
— Махнем в другой театр?
— Эх! Где есть сцена, занавес — там будет для меня и Юлия, все будет напоминать ее… Нет, нет, бросить все, переменить, уйти, уехать, исчезнуть! И ладно! И не будем больше об этом!.. Если бы не ты, я, может быть-.. Мне, может быть, совсем было бы плохо…
Касаткин, очень растроганный, не заговорил, а как-то ласково забубнил:
— Ладно, дьявол с тобой, поезжай. Идеалист. Мечтатель. Вреда, конечно, не будет. Но только заруби на носу: я поджидаю тебя в Чите. Я не уеду, пока ты не очнешься.
— Руку! — радостно прошептал Алеша.
Огни папиросок чертили во тьме круги, зигзаги, сыпали искры: друзья, разговаривая, махали руками.
— А потом вместе укатим в твой Нальчик! И будем жить в одной комнате! — Кругом шлепались невидимые шишки, ударяли по спинам. И для обоих эта минута была дорогой…
…Только перенесли вещи к костру, из леса взвился дикий крик:
— Караул! Спасите! Караул!
Северов вздрогнул:
— Дьячок кричит!
Прыгал через кусты. По лицу хлестали ветки. Запнулся за корень. Упал. Продирался сквозь заросли. Ветви трещали. Вывалился на поляну. Во тьме налетел на изгородь. Кто-то переваливался через нее.
Послышались чьи-то голоса.
— Что случилось? Эй, кто там? — закричал Алеша.
— Отбой! Ложная тревога! — сообщил Никита. Хрюкая от смеха, он лез через изгородь.
В темноте Дьячок не могла добиться на подсобном хозяйстве, где директор, где конюх. Все спали. И тогда она завопила «караул». Сразу же объявились и конюх, и директор.
— Сейчас будет и телега и лошадь, — платком вытирал глаза Касаткин. — Хитрая же баба, я тебе скажу! Авантюристка!
— Не забывай эту ночь! — прошептал Алеша Касаткину в самое ухо, сияя в темноте глазами.
В чаще леса — два санатория: один для военных, другой для гражданских. Каждый имел свой клуб. Северов играл в военном клубе, а Юлинька в гражданском. И устроили их жить в разных местах, и обедали они в разных столовых.
Курорт был переполнен, разместили актеров с трудом: кого в клубе, кого на дачах, кого на застекленной веранде. А Северова, Касаткина и Сенечку Неженцева устроили в поликлинике. В восемь вечера она закрывалась, и приятели хозяйничали там.
В клубе было жарко, душно. В комнате, где гримировались, открыты все окна, дверь. Шлепал, плескался, журчал в темноте дождь. Он то лил обильно, громко, то сеял тихо, нежно.
Полосы света из окон легли на пузырящиеся лужи, на сосновые лапы. Листья ольхи дергались, вздрагивали — в них щелкали капли.
Пахло мокрым лесом и гримом.
Среди комнаты стоял большой бильярд, обтянутый ярко-зеленым сукном. За ним и гримировались. На сукне запестрели газеты, афиши, зеркала, коробки грима и пудры.
У Касаткина была наклеена борода, а усы еще завивали. Белокофтин прилепил только усы, а бороду держал в руке. У Чайки — одна щека розовая, другая белая. Караванов привязывал ватный живот.
Работа началась.
Алеша, улыбаясь, смотрел на всех. Он еще не гримировался, его картина была в конце спектакля.
Шумел переполненный зал. Соскучившиеся курортники встречали спектакль хорошо, много смеялись, хлопали, и актеры играли лучше, чем всегда.
Было празднично-весело.
Двери зала тоже распахнули, и актеры на сцене слышали плеск дождя, далекий шум разлившихся речушек.
Это был последний спектакль Северова. Ночью он уезжал в город брать расчет.
Задумчиво улыбаясь, Алеша быстро ходил из угла в угол. Всех он сейчас любил, все ему были приятны.
— Ах ты, батюшки, — весело вздохнул он и сел и тут же вскочил, подошел к окну, но и здесь не смог задержаться, принялся снова ходить.
— Чего ты маешься? — спросил Касаткин.
Алеша посмотрел на него счастливыми глазами, но они явно не видели Никиту, а видели что-то другое. Взял у Вари огурец, кривой, в черных колючих бугорках, разрезал лезвием безопасной бритвы на две половинки, густо посолил, потер, пока не появилась пена, но тут же махнул рукой, сунул огурец Касаткину, схватил плащ и выскочил. Чувствуя, что больше не в силах пережить разлуку с Юлинькой, шлепал по мокрым тропинкам в гражданский санаторий.
В лесу было темно. Между стволами кое-где сверкали окна дач. По тропинкам хлюпало, в соснах шуршало, между корнями, выпершими, как жилы, плескались потоки.
Он шел, расстегнув плащ, сдвинув кепку на затылок, махал сосновой веточкой. По лицу, по шее, по рукам текло, в туфлях было сыро, а брюки, напитавшись водой до колен, стояли коробом и гремели при каждом шаге, как брезентовые. Было так темно, что порой он натыкался на стволы, попадал в лужи.
У клуба через песчаную аллею бушевали потоки, и нельзя было разглядеть в темноте, куда ступить. Алеша весело побежал по воде, подошел к крыльцу, ведущему за кулисы. Под выступом крыши, в открытых дверях стояли актеры. В темноте виднелись белые пятна платьев и огненные точки папирос. Со сцены доносились громкие, веселые голоса, а из зала — хохот зрителей. Шел водевиль «В сиреневом саду».
Проскользнул на сцену и сразу же увидел Юлиньку. Она всплеснула руками, зашептала:
— Господи! С ног до головы мокрый! Что это погнало тебя сюда?
Алеша показал на сердце.
— Чудак! — Юлинька душистым платочком вытерла его лицо. А лицо было в каплях, как будто он только что умылся.
Алеше вдруг захотелось плакать.
Юлинька насторожилась, послушала, что говорили на сцене и, улыбнувшись ему, убежала.
Он прижал глаз к дырочке в сукне, смотрел, как играла Юлинька. Вдыхая пыль сукна, слушал ее мягкий нежный голос. Он видел, как она брала деревянную ватрушку, а вместо сахара кусочек мела и, делая вид, что кусает их, жевала пустым ртом. Алеша беззвучно смеялся.
Потом Юлинька ушла в крошечную гримуборную, похожую на кладовку.
Алеша стоял, улыбаясь в темноте, а мысли мелькали, как дождик: «Ночь неповторимая. Ветерок из неведомой дали. Юлинька рядом. Музыки хочется. Светлой, печальной. Счастливым быть хочется. Не умею. Не умею… Дождик стучит по крыше. Грустно мне. Последний спектакль. Последний…»