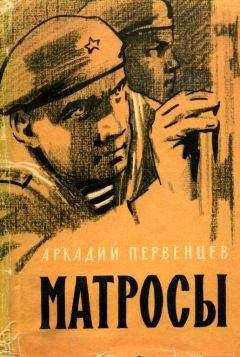Те или иные происшествия попадают как камень в тихое озерцо, мгновенно расходится много кругов. Снова Танечка у всех на языке, ее и поругивают, и завидуют. Она всегда в центре общественного мнения, будь то новая шуба, неожиданная поездка или просто нечто вроде потасовки со своим ревнивым мужем.
Как и многие женщины, Зина Волошина была любопытна.
— Не слышал подробностей, Володя, что там произошло у Лезгинцевых?
— А что говорят?
— Говорят, опять замешался Ваганов. Примерно то же самое, что и полтора года назад… — Она готовила сына в школу. В комнате держался запах утюжки.
— Да, опять Ваганов, Зина, насколько я в курсе дела.
— Зачем вы его сюда пускаете?
— Во-первых, пускаем не мы. Во-вторых, он отличный, нужный нам специалист. Лучше ответь, почему так получается у Лезгинцевых? Кто из них виноват? Жена?
— Мне бы не хотелось взваливать все на Татьяну. Она баба хорошая. Ей трудно с Юрием.
— Почему? — Волошин не знает еще, куда клонит жена, и заранее настроен отбить все атаки. Лезгинцева он не даст в обиду, пусть даже и есть какая-то доля его вины.
— Семейная жизнь состоит из взаимных уступок, — после короткой паузы изрекает жена.
— Афоризм?
— Действительность нередко афористична. — Зина просматривает выглаженную куртку — надо пришить пуговицу. — Татьяна южанка. Ей трудно переносить здешние условия. У нее своеобразный характер… Она человек общества.
Волошин недовольно поморщился. Ему не впервые слышать от женщин поселка об угнетающем действии покоя. «Что им нужно, — рассуждал Волошин, — вертеться волчком? Недостает им сплетен, пересудов или театров?» Для него, Волошина, не было покоя в Юганге. Он жил здесь в постоянном напряжении: кончалось одно — начиналось другое. Если освобождался от службы, некогда было отдыхать: писал, чтобы оставить свои заметки о работе на подлодке. Никому не известен день смерти, тем более для людей избранной им профессии.
Поведение жены Лезгинцева крайне раздражало Волошина. Она, только она выбивала из колеи очень способного, нужного ему командира боевой части. Лезгинцев успел прихлебнуть лишка. За ним установлен медицинский контроль. С Лезгинцевым легче всего расстаться, если поступить официально, но это убьет его. Волошин привык к Лезгинцеву. С ним можно спокойно идти куда угодно: он верит Юрию.
— Ничто не дает права Татьяне Федоровне вести себя так разнузданно, — голос его окреп, потерял гибкость.
Если пойти против, неминуема вспышка. Лучше сдержаться и согласиться. Зина не оставляет никаких лазеек. Мужу, как всегда, трудно перед заданием. Разве время ему заниматься еще и семейными делами своих подчиненных? Зачем только она затеяла этот разговор?
— Я ее не оправдываю, Володя. Я хочу смягчить… Ваганов уехал. С глаз долой — из сердца вон… — Что-то еще говорит она, пытается затушевать остроту, вернуть мужу ровное состояние духа.
— Глупая и вредная она бабенка…
Жена согласно кивает головой, хотя ей хотелось бы поспорить, вступиться за женщин. И ей скучно, однообразно и тоскливо. История эта невольно взбудоражила ее, камень развел круги — они разошлись далеко, к оставленному навсегда Ленинграду, к подругам и друзьям: ухаживали, бесились, весело было…
Волошин мог догадаться о мыслях жены, но углубляться в них не хотел, ему было некогда. Каждому понятно, что магнолия не растет в Подмосковье, а ландыш в тундре. Волошин верил в тех, кто длительную ночь и небесные сполохи ставил выше неоновых витрин, а зиму с ее сухими метелями считал приятней слякоти средних широт.
Ничего, вырастет племя, влюбленное в Заполярье. Пусть им будут их дети. Волошин не желает своему сыну иной судьбы. Леньку давно не пугает солнечный луч ночью или северное сияние вместо солнца. Для него и его сверстников подобные трюки природы нормальны. Что может быть величественней сурового облика окружающего их пейзажа? Эти базальтовые высоты, обтесанные исчезнувшими ледниками, дыхание Гольфстрима, словно ощетиненное инеем, водоросли от Кубы, Гаити, Саргассова моря, донесенные сюда длинным и мудрым путем. Здесь укреплялась вера в товарища, человек ценился не за пламень речей: наболтать можно чего угодно. Люди осваивали строгую кромку русской земли душой, отрешаясь от узаконенных благ, становясь лицом к лицу с суровой природой, подчиняя ее своей воле.
Волошин с благодарностью думал о жене. Заботы семьи ложились на ее плечи, и поэтому ему гораздо легче было держать трудную вахту. Летом, словно на перелете, женщины отправлялись на юг вместе с детьми. А сюда стремились стаи дикой птицы, чтобы вывести потомство на пустынных скалистых берегах вблизи холодного моря.
Жене было трудно. Вспоминались первые месяцы: вода из снега, ребенок в шкурах, как дитя эскимоса; от комаров не спасали никакие средства. Жена помогала ему отдавать себя морю — такой был избран им путь, она никогда не сетовала.
— Вы притворяетесь! — негодовала Татьяна Лезгинцева. — В душе вы такая же, как и мы, отсталая, грешная женка…
— Возможно. В душе.
— Тогда зачем же хитрить?
— Я старалась и поборола себя.
— Зачем?
— Так нужно. Я вышла замуж за моряка, которого послали сюда…
— Так постарайтесь его выцарапать отсюда! На Васильевский остров, на Невский — пусть вам светят отсюда белые ночи.
— Нет.
— Вы откажетесь уехать отсюда?
— Не откажусь.
— Вот я вас поймала!
— Нисколько, Татьяна. Я перееду вместе с ним, и только. Пилить его я не могу. Я привыкла, применилась. Где ему нужно, там и мне хорошо.
— Ой, как это скучно, Зинаида! Куда я попала?..
Наступала еще одна полярная ночь. Солнце надолго оставляло Югангу. Падала температура. Начинались ветры. Влезали в меха, открывали очередную зимовку.
А корабли продолжали свой круг. Недолго пошатывались китовьими спинами океанские лодки у причалов. Бесшумно отходили, погружались и исчезали в черной воде. Жены и дети оставались одни. Срок возвращения был тайной для них. Провожали с тоской, как на фронт. Не верьте сухопутным бодрякам, повествующим о легкой жизни жен моряков…
Ровно в девять утра Дмитрий Ильич направился на свидание с Волошиным. Два квартала жилых домов по ровной улице остались позади. Теперь следовало спуститься вниз, пройти переулком с глухими стенами невысоких зданий, возможно складов, и подойти к проходной будке у железной калитки.
Из будки появился часовой — старшина с автоматом, проверил предъявленные документы, пропуск и все же, оставив Ушакова у калитки, вернулся в проходную, откуда позвонил по начальству. Старшина не мог понять, почему капитан третьего ранга сунул ему гражданский паспорт и назвал его голубчиком.
Разрешив свои сомнения, часовой вернул документы.
— Пожалуйста, проходите, товарищ капитан третьего ранга!
От калитки прометенная дорожка вела к одноэтажному серому дому. Часовой проследил глазами, пока вновь прибывший офицер не прошел в ту дверь, куда ему было разрешено.
В сером доме дежурил матрос. Возле него на тумбочке стоял телефон. Здесь было тепло. Лицо часового замкнуто, и процесс проверки документов продолжался недолго.
— Вас проведут, товарищ капитан третьего ранга!
Вызванный часовым матрос пошел впереди, миновал несколько поворотов и откозырял возле ненумерованной плоской двери.
Волошин занимал одну из комнат в здании, вырубленном в прибрежных скалах. Окна не было. Западная часть стены, обращенная к морю, была закрыта шторой.
Диван, белые стулья, такой же стол. Кроме телефонов — селектор, динамик радиосвязи и плоский, поворотный телеэкран.
Справа в углу — сейф, похожий на холодильник, над ним портрет длиннобородого смеющегося человека в комбинезоне — покойный академик Курчатов.
Формальная часть заняла немного времени: поздороваться, указать на стул. Волошин знал, что о нем говорят как о своенравном, строгом и излишне требовательном человеке, и понял, что и журналисту успели наболтать об этом — ишь как насторожился.
Ушаков познакомился с Волошиным еще на пирсе, в сутолоке проводов, но рассмотреть его там не мог. Теперь он видел сидевшего напротив него человека с погонами капитана первого ранга, с прищуренными в холодном равнодушии крупными глазами нестойкого кофейного цвета. Пряди волос, которые называют непокорными, придавали «лохматость» всему его мужественному, скульптурно вылепленному лицу с резко очерченными линиями губ и подбородка, предполагавшими в этом человеке грубоватую волю.
Предвзятое мнение не покидало Дмитрия Ильича, и это Волошин чувствовал. Не принадлежа по своей натуре к общительным людям, он и не пытался понравиться, а тем более очаровать столичного журналиста.
— Мое имя-отчество Владимир Владимирович, — сухо ответил Волошин на заданный ему вопрос.