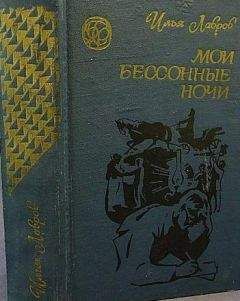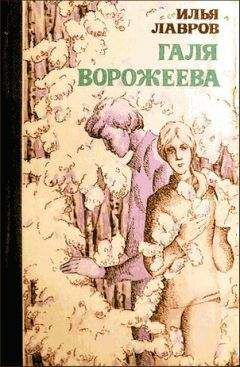Длинно визжа, открывается дверь пристройки, и выходит отец. Шапка завязана, овчинный воротник поднят, его, как у детей, снаружи охватывает зеленый шарф. Длинные концы с белыми кистями лежат на груди.
— Вот морозец… И дышать трудно, — говорит отец необычно мягко и вроде бы даже ласково. — Ты куда?
У меня так и переворачивается что-то в душе.
— За хлебом.
— Выкупи мне, а? Выкупишь? — нерешительно упрашивает отец.
— Да ты что, конечно, — торопливо восклицаю я.
Отец снимает варежку, разжимает кулак. В нем — свернутая карточка, а внутри сверточка — монетки.
Я иду к калитке.
Машины катятся осторожно, с включенными фарами. Из морозной, как бы сыплющейся, копоти выбегают люди с багровыми, нажженными щеками, с заросшими инеем ресницами. Изо ртов вырываются клубки пара. Лицо мое опаляет, губы деревенеют, коленки щиплет. Я бегу, словно в одной рубахе.
С трудом оттягиваю дверь на тугой пружине и с морозными клубами вбегаю в магазин. Двери ахают за спиной. В небольшом бревенчатом магазине ярко горят лампочки, пахнет теплым хлебом, перепархивают залетевшие два воробья и синица…
Получив хлеб, я отщипываю корочку. Как пахнет! Жую — ничего нет вкуснее. Но до чего же мало! Выданный троим на весь день я могу сразу съесть один.
На улице уже совсем светло. Садятся, падают мне в ноги воробьи, распластываются на снегу, становятся почти плоскими, разбросив зубчатыми веерками беспомощные крылышки. Воробьи подпускают к себе совсем близко, они взлетают как-то тяжело, отчаянно трепыхая крылышками, будто нет им опоры в воздухе.
— Не жильцы, — говорит старик.
Я быстро шагаю. Снег под ногами так хрустит, точно кто-то смачно жует вилок капусты…
Забегаю к отцу в пристройку. Топится маленькая плита, в дырках дверцы весело пляшет огонь. Но в насыпной комнатенке все равно холодно. Отец сидит у печки, в шапке, в полушубке, и все так же по-детски охвачен его поднятый воротник зеленым шарфом, и белые кисти на груди.
В руке глиняная миска с вымытой картошкой. Он опускает в пузатый чугунок на открытой конфорке несколько картофелин, хочет опустить еще одну, но передумывает, видно, экономит.
— Садись, — все так же неслыханно мягко, по-доброму говорит он.
Я сажусь на узенькую кровать, застланную лоскутным одеялом. Под лепешкой матраца поскрипывают доски. Я чувствую себя неловко и смущенно.
В углу набросаны старые, еще не подшитые валенки, обрезки резины для заливки галош. На подоконнике мотки дратвы со щетиной на концах вместо иголок, куски вара, пузырьки с резиновым клеем.
— Как учишься?
— Ничего.
— Успеваешь?
— Успеваю.
— Ну-ну, смотри, успей… Чтобы не пошла вся жизнь псу под хвост. Не пронеси ложку мимо рта.
У отца сегодня необычное лицо, оно какое-то виноватое, доброе. И очень бледное.
— А мне что-то… Прихворнул я что-то… Сердце стискивает. Скриплю, как немазанная телега. Был конь, да износился. Никогда я не совался к докторам. Ничего они, поди, не смыслят. Какие-нибудь барышнешки, свиристелки. Да и отплясал я, видно, свое. Иструхлился изнутри, дупло выкрошилось, — он говорит тихонько, задумчиво, будто прислушиваясь к дупляной пустоте внутри себя. — Топчусь среди вас… А вы калякаете на каком-то, ровно и не русском языке… Сам черт ногу вывихнет в ваших делах. Пропало… Все пропало…
Помолчали. Чугунок тихонько запищал, запел.
— Вот сам себе варево мастерю, — отец усмехается. — Иной раз такое получится — кусок в глотку не лезет. Махнешь на него рукой, пусть, мол, барсук его ест. — И он смеется мягким, старушечьим смешком.
А меня пронизывает жалость. Мне больно при мысли, что жизнь отца бессмысленно погублена. Я уже не помню обид, нанесенных мне. Обогреть бы его какими-то словами. Но их между нами никогда не было. И сейчас я не могу их найти. А ведь мы могли бы, наверное, любить друг друга. Я вспоминаю, как мы ездили косить траву и какой был тогда отец.
Он берет со стола бумажку и протягивает мне.
— Вот… Осчастливили… Распрягли меня… Отъездил!
Пока я читаю извещение о том, что наш дом подлежит сносу с предоставлением квартиры или равноценного дома в другой части города, он свертывает цигарку, разгоняет рукой облачко дыма.
Давно ли я хотел, чтобы раскатали этот дом по бревнышкам, а сейчас вдруг чувствую саднящую жалость. В этом доме я знаю каждый сучок, каждый гвоздь. И плохое, и хорошее — все связано с ним.
— По нашей стороне всему кварталу притащили эти бумажки, — говорит отец и пугает меня старушечьим смешком. — Весной и следа не останется от домишки. А вот помру я, глядишь, там и кладбище снесут. Сад сделают. И даже холмика не останется от Михайлы Лаврова — ломовика, извозчика и водовоза. Вот тебе и вся суть жизни.
На чугунке дребезжит крышка, по красной плите катятся водяные шарики, с шипением превращаются в пар. Отец снимает крышку.
— Жалко дом-то? — с насмешливым любопытством спрашивает он.
— Конечно.
— А помнишь, как ты играл с дождем? А я — вжиг, вжиг, — и он молодцевато выпрямляется, взмахивает руками, будто подсекает траву.
Я возвращаю ему извещение, он смотрит на него, вертит в руках, будто удивляется, и не понимает, что это такое и зачем это?
Ухожу я растерянный, в смятении, чувствуя, что не сделал что-то нужное, не сказал что-то необходимое…
Мать, узнав о сносе дома, плачет, кричит:
— Ну, что это за жизнь? Не одно, так другое. Да когда это покой-то наступит? Не нужно мне казенной квартиры. Ну ее к чёмеру! Сроду я не жила квартиранткой, пусть дают дом. Хоть плохонький, да свой. А в большой дом — боже сохрани! Ни огорода, ни куриц, ни коровенки, ни подпола для огурцов. Да что это за жизнь без хозяйства? И так еле тянем.
— Не осточертело тебе еще это самое хозяйство? — сердито спрашивает Мария…
В полдень я собираюсь в библиотеку.
Город по-прежнему тонет в темной, морозной копоти.
Я открываю калитку и удивленно смотрю на грузовик, останавливающийся возле нашего дома. Милиционер выглядывает в дверцу, называет фамилию, имя отца.
— Здесь живет?
— Здесь.
Милиционер выпрыгивает из кабины, открывает борт.
В грузовике, поджав немного колени, посеребренный снежной пылью, лежит отец. Как всегда в истрепанном дождевике поверх старенького полушубка, в валенках с самодельными галошами. Он будто пригрелся и уснул.
А из дома уже бегут. Мать заголосила, Мария заметалась возле грузовика…
Поев картошки, отец пошел на почту платить за электричество. Протянув в окошечко квитанцию и деньги, он вдруг медленно упал к ногам стоявших в очереди…
Приходит тетя Парасковья, всплескивает руками:
— Успокоился наш Кириллыч, отвоевался, царство ему небесное!
Я бегу к тете Маше. У нее оказался Ефим. Засуетились, заохали, начали хватать одежду. А я бегом на автобусную остановку. Еду к тете Кате. А передо мной — все отец. То на лугу взмахивает настоящей литовкой, то в пристройке — воображаемой. В глазах моих иногда туманится, будто сыплется морозная копоть.
Автобус швыряет, он трещит и скрипит всеми суставами. Меня сжимают люди. И никому в голову не приходит, что у меня сегодня умер отец. Окна затянул такой каракуль инея, что в автобусе сумрачно. Окна усеяны глубокими прозрачными кружочками, которые надышали мальчишки. Они ногтями нацарапали разные рожицы, домики, а кто-то из взрослых написал чего попало, вроде: «Меняю жену на валенки», «Отдам тещу за велосипед», «Не найдешь дурака». Буквы светились на сером инее. А его каракулевые завитушки темнели, будто присыпанные сажей.
Я отвожу глаза, и опять передо мной отец с литовкой среди травы…
Весь день я мотался по городу, боясь идти домой, к тому страшному, что там делалось.
Со справкой врача я поехал в загс, взял разрешение на похороны. Пошел на телеграф, дал телеграмму Шуре и Алексею. Я тянул время. В четыре часа уже стемнело. Самый короткий день кончился. Началась самая длинная ночь.
Из окон в туманную тьму протягиваются полосы света, как от фар.
Вся улица капустно хрустит, люди спешат домой, в радостное тепло. Еще только шесть, а кажется, что уже полночь. Туманная, черная стужа. Ликует грозный и ужасный декабрь. Семнадцать часов будет тянуться эта ночь…
Дом полон людей. Дяди, тетки, соседи, какие-то старухи. Отец внизу, в комнате за печкой. Он лежит головой в угол с иконами. Вокруг него жарко потрескивают свечи. Мигает лампадка. Небритое лицо его спокойно, равнодушно. Как сильно побелели усы!
Пахнет воском и ладаном. Возле отца, вся благостная и просветленная, читает псалтырь тетя Маша. Она читает монотонно и певуче…
В кухне кипит самовар, Мария что-то режет, кладет в тарелки.
Я поднимаюсь наверх. Там среди женщин сидит мама. Как всегда в таких случаях, вспоминают последние слова и поступки умершего и видят в них особый, затаенный смысл.