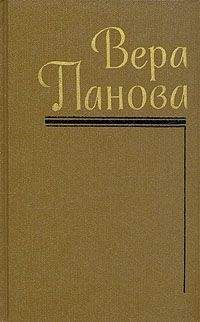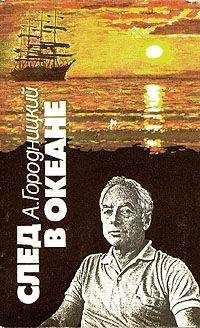Разуваясь, он расспрашивает председателя укома об уездных делах, и тот отвечает, тоже сидя на полу и разматывая свои портянки. Разговор все отрывочней: устали. Засыпают. На темных подушках белеют лица.
В недрах бывшего помещичьего дома то тут, то там слышатся глухие постукивания, поскрипыванья, шаги. Это, должно быть, уборщица моет пол, передвигает столы и скамьи. А это, должно быть, старый учитель бродит, как домовой. Непостижимо, думает Севастьянов, что такой человек, явно неудачливый и несчастливый, явно проживший жизнь трудовую и трудную, с враждебностью отталкивает от себя классовую правду, которая все озаряет и объясняет, — легче ему, что ли, доживать свой век в потемках? Придется-таки нам попариться, думает Севастьянов, покуда вложим нашу классовую правду во все головы, седые и молодые… В распахнутые окна на засыпающих людей заглядывает луна, закатываясь за темную гущу сада.
В сарае слева были навалены бочки и ящики, а справа из пустоты тянуло холодом — от ледника, широкой ямы, где под слоем соломы хранили лед.
Снаружи пылал полдень, тут были сумерки.
Пахло сырой землей, рогожами.
Севастьянов постоял у края ямы, простился мысленно с Кушлей… С кем он прощался? В загробную жизнь он не верил. Лежавший в ледяной яме не мог его услышать.
Но в памяти Севастьянова Кушля жил, вот он выпустил изо рта ленточку дыма, посмотрел весело и задумчиво, сказал: «Замечательная вещь, дорогой товарищ, не поверишь: ноготки моего фасона!» — с этим живым Кушлей простился Севастьянов.
И вдруг почувствовал, что он не один тут: кто-то вздохнул у него за спиной. Оглянулся, — неплотно притворенная дверь была как огненная щель; в сумраке возле бочек стояла, понурившись, серая фигура: Ксаня. Он к ней шагнул — подняла руки, закрыла лицо, застонала сквозь стиснутые пальцы длинными глухими стонами…
После похорон Коля пошел бродить по кладбищу, и Севастьянов, от печали и неприкаянности, бродил за ним.
Они плутали между крестами и холмиками, холмиками и крестами. Надписей на крестах не было. Безымянно, безвестно спали здесь поколения.
В сторону лимана все реже становились кресты и бесформенней холмики, местами земля только чуть-чуть вздувалась там, где когда-то были погребены люди.
Трава в этой части кладбища была некошеная, лютая, грубая, как кустарник. Одни растения рассыпали семена, а другие такие же рядом цвели, и множество мелких бабочек, лазоревых и красных, вспархивало с цветов.
Коля обрадованно позвал Севастьянова: он наткнулся на старую каменную плиту. Она лежала криво, уйдя боком в землю; травы переплелись над нею. Коля стал гнуть и ломать траву, расчистил камень и прочел надпись. Они нашли вторую плиту, и третью, и целую колонию осевших в землю, разбитых на куски старинных надгробий.
Нетрудно было угадать, что это могилы помещиков, которым в прежние времена принадлежала Маргаритовка. Севастьянов не слыхал, чтобы существовало мужское имя Маргарит; и Коля тоже. Но тут лежали: Маргарит Феодорович и Феодор Маргаритович, и Григорий, Венедикт, и Варфоломеи Маргаритовичи, и Маргарит Григорьевич. На одной плите были вырезаны звезды, круглоликое солнце и месяц в профиль, и стих:
Здъсь землей покрыта
Лицемъ душею Маргарита.
Такая ей цъна
Отъ общества дана.
Маргарита Варфоломъева дочь Блазова.
1758–1775
Присели покурить. Коля высказал предположение, что, может быть, Маргарит — греческое имя; может быть, эти помещики были греки по происхождению. Он интересно рассказал о греческих поселениях на Черноморье и о том, как князь Владимир ходил на Корсунь. Потом Коля открыл свою папку и стал рисовать, а Севастьянов прилег в траве. Сквозь зонтики соцветий видно было, как мельтешат, танцуют маленькие яркие бабочки… Севастьянов проснулся, — неподалеку между могилами Маргаритов сладко спал Коля, его разгоревшееся лицо было в бусинках пота, крохотный паучок на паутинке осторожно спускался с цветка ему на бровь. Севастьянов разбудил Колю, они отряхнулись, перешагнули через остатки кладбищенской ограды и пошли купаться. В слободе бесчисленные Кушлины родичи справляли поминки…
(Отдельно от всех гуляли старухи, сидя в холодке под вишнями вокруг вбитого в землю стола. Они скинули кофты и сидели в рубашках и юбках, та простоволосая, та в платке, лихо повязанном концами назад; на шее у них, на шнурках и цепочках, болтались крестики. Под сквозной, золотой, лениво шевелящейся тенью сидели старухи, пили и закусывали.)
…Ночью Севастьянов и Коля на рыбацком баркасе плыли в Т. Подувал ветер, белые гребешки бежали по лиману, луна ныряла в быстрых облаках. Скрылся из виду берег, — тогда не думалось: я был там, буду ли еще? Я ходил там, мой голос раздавался там, мой товарищ похоронен там, — вернусь ли туда?.. Не думалось: сколько еще уголков мира покажется мне и скроется?..
Думалось другое. Ты чувствуешь или нет — я к тебе приближаюсь, кончается наша разлука; если поспею к утреннему поезду — столько-то осталось часов до встречи. — Бесшумно проходили босиком рыбаки. Поскрипывала мачта. — Возвращаюсь к тебе и буду возвращаться несчетно раз. Несчетно, как эти бегущие гребни… Опять с волнением и удивлением, будто о чуде и тайне, вспоминал, как долго она для него почти ничего не значила, хоть он и знал ее; словно бы у входа стояла она, и вдруг вошла и все заслонила. Ты счастье без края, думал он; как эти вечные волны, думал он…
…Вот и осень, дождь льет и льет. По черным стеклам окон бегут, блестя, кривые струйки и струится отражение зеленой лампы. Севастьянов задержался в редакции. Старик Залесский рассказывает о своих путешествиях, достает из портфеля снимки. Пространная жизнь, прожитая в передвижении, есть что поглядеть и послушать. Залесский с его пенсне и пышными усами является Севастьянову в диких степях, на снежных склонах гор, у пенных водопадов. На одном снимке он двадцатипятилетний, на следующем пятидесятилетний, еще на следующем — совсем юный, это чередуется много раз; словно свойство такое у Залесского — состарившись, вновь молодеть; словно и теперешняя его седина и шумная одышка — явления временные, и в один прекрасный день, скинув груз годов и немощей, он снова будет стоять у водопада, в фейерверочном ореоле брызг, — молодой, подтянутый, стройный, ухарски отставив руку с альпенштоком…
Говорит Залесский много, но делает передышку через три-четыре слова. Его толстовка, похожая на распашонку, расстегнута. Видно облачко волос на груди. Дымчатое облачко на белой нежной коже, напоминание о былом мужестве. Свисает тесемка пенсне; и в пенсне отражается зеленая лампа. Пришла жена Залесского, прозрачно-белолицая, в тонких морщинах, важная; села поодаль. Днем она приносит Залесскому завтрак в корзиночке с круглой крышкой, по вечерам заходит, чтобы отвести Залесского домой, — что-то у него с сердцем, она боится пускать его одного по улице.
— А ее, — говорит Залесский, — я нашел в России. В Обояни. Городишко Обоянь… Дел у меня там не было, случайно забрел, захотелось посмотреть: что за город с таким привораживающим названием. Забрел и нашел ее… Я всегда вверялся моим желаниям. Желать — хорошо. Желание есть жизнь. У вас много желаний?
— Порядочно.
— Чего вы хотите?
— В отношении чего?
— В отношении себя лично.
— В отношении себя лично, — говорит Севастьянов, — очень нужно получить образование.
Он только что поступил на рабфак и учился старательно.
— Надоело ничего не знать.
— Еще.
— Хочу съездить посмотреть Москву Кавказ хочу посмотреть. Хочу везде побывать, как вы.
— Еще.
— Хочу… Хотел бы написать одну вещь.
— Какую?
— Так, одну вещь.
— Не для газеты?
— Нет. В газету не вмещается.
— Отлично! — уважительно говорит Залесский. — Отлично, что вы уже не вмещаетесь в газету. Большая вещь?
Севастьянов задумывается.
— Не знаю!
Невозможно ответить на этот вопрос, когда первые строчки едва написаны и все только клубится в воображении, как дым.
Залесский говорит о любви.
— Я много любил… — бросает он сквозь одышку, — и меня любили. Я остывал, и ко мне остывали Меня покидали — еще как: рвал и метал, стрелялся, и это было. И все было великолепно. Оглядываюсь — перебираю эти дни, восходы, закаты. Цветут сады; и вообще происходит бог знает что, бог знает что…
«Дни, восходы, закаты», — повторяет Севастьянов мысленно, и ему представляются чередой — его восходы и закаты, эти разряженные, праздничные небеса; под розовым высоким рассветом он видит спящую фигурку на железной лестнице, над пустым двором… Жена Залесского улыбается длинными бледными губами, куда-то засмотрелась старуха, прищурясь, верно, в свои, ей одной видимые цветущие сады.