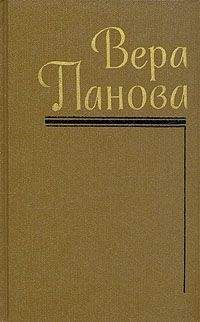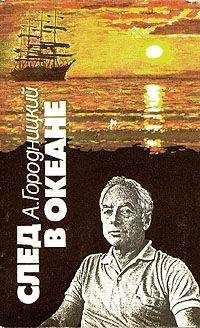«Дни, восходы, закаты», — повторяет Севастьянов мысленно, и ему представляются чередой — его восходы и закаты, эти разряженные, праздничные небеса; под розовым высоким рассветом он видит спящую фигурку на железной лестнице, над пустым двором… Жена Залесского улыбается длинными бледными губами, куда-то засмотрелась старуха, прищурясь, верно, в свои, ей одной видимые цветущие сады.
— Ничего, кроме благодарности! — говорит Залесский. — За эти взрывы, за то, что пережил их сполна! За то, что ждал на жаре и на морозе, за то, что плакал, за то, что стрелялся, и за то, что промахнулся! Той, которую проклинал самым театральным образом… которую считал преступницей, предательницей… палачом своим считал, — теперь говорю ей: «Ты в поля отошла без возврата, да святится имя Твое!»
Это слишком. Стариковский идеалистический лепет. Залесский забыл, как это происходит.
…Они разошлись на углу. Одной рукой Залесский опирается на палку не альпеншток, обыкновенная стариковская палка; в другой руке портфель с фотографиями. Жена держит раскрытый зонтик. «А что он сделал для людей? Что у него в итоге? Собрание собственных фотокарточек? Жена? Кот?» (Дома у них сибирский кот, он им за сына, и за дочку, и за внуков…)
Севастьянов идет под дождем по улице. Еще не очень поздно, свет во многих окнах. Окна подвалов и полуподвалов — у ног Севастьянова. Видно, как люди ужинают, двигают, разговаривая, губами, смеются, сердятся. Дряхлый старик набивает папиросы при помощи машинки, и с усилием движутся, просыпая табак, его трясущиеся худые руки, — женщина плачет, мужчина ее утешает, — мужчина колет кухонным ножом лучину, — женщина примеряет перед зеркалом платье с одним рукавом, — крошечную девочку укладывают спать, а девочка не хочет, прыгает и веселится в кроватке с высокой сеткой. Бесчисленность существований! Сколько всякой всячины на свете!.. Дождь барабанит по кожаному шлему, как по крыше. Холодно, и рядом шагает неприязненный, нахохленный, с прилипшим к виску мокрым чубом Спирька Савчук.
— И ничего не знаешь?
— Нет, — отвечает Севастьянов.
Изменился Савчук; меньше чем за год повзрослел — не узнать. Бросил свое бузотерство; образец дисциплины и выдержанности, не хуже Яковенко, с которым он дружит по-прежнему. С комсомольской работы его перевели на партийную, на заводе о нем говорят: вот как у нас растут молодые коммунисты.
И раньше он не был склонен к зубоскальству, у него всегда был возвышенный настрой мыслей, он и бузил-то, собственно, от исступленной требовательности ко всем и ко всему; теперь же вовсе стал мрачен. Маленький рот сжат железно. Круглые глаза светло и неумолимо смотрят из-под чуба. Расскажут смешное, ребята покатятся со смеху — у Савчука только мускул дрогнет на желтой щеке да веки отяжелеют от презрения к этому бессмысленному веселью. Он носит Зою в крови как малярию, как хинную горечь во рту.
— Так-таки ничего не слышно: где, что?
— Нет.
Не любит Савчук Севастьянова. Терпеть не может — но даже впотьмах, сквозь дождь, узнал, окликнул, догнал. В его голосе нотка хмуро-торжествующего превосходства. «Ты ее разве так любил, как я, — будто хочет сказать и не говорит Спирька, — ты ее не уберег; я бы уберег!..» В длинный-длинный вечер, косо заштрихованный дождем, слилась в воспоминании та осень. В вереницы луж, покрытых рябью, у подножья фонарей… Пропал в косых струях Савчук — идет с Севастьяновым, насунув кепчонку на нос, Семка Городницкий. Медлительно бубнит глухим басом, чихает, кашляет. Отроду сутулый и узкоплечий до жалости — нет-нет, спохватясь, возьмет и выпрямится, и выпятит грудь, чтобы казаться бравым здоровяком, бедный Семка. И через два слова на третье Севастьянов слышит имя Марианны.
— Она получает марксистскую закалку под моим просвещенным руководством. Прочла «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Начали «Капитал». Она читает вслух, а я даю квалифицированные комментарии.
— Опять кашляешь, Семка, простудился?
— Слегка. Пустяки. После санатория все обстоит блистательно. Беда Марианны в том, что ею никто не занимался как следует. Профессорская дочка, с гувернантками росла, откуда быть широте кругозора? Сплошная мещанская кисейность. Илье некогда ее воспитывать…
И вдруг говорит:
— Такой вопрос, Шурка. Если бы мне вздумалось восстановить статус-кво…
— Что?
— Если бы мои книги и я перекочевали обратно — что бы ты сказал?
— Ничего, конечно.
— Не очень возражал бы?
— Что мне возражать? Мы так и думали, что ты не уживешься. Чересчур там роскошно, не по тебе.
— Дело не в роскоши. Этот вопрос я проанализировал еще раз — без вульгаризации, абстрагировавшись от личных антипатий, и пришел к выводу, что это, во-первых, не роскошь, а элементарный комфорт, на который имеют право все трудящиеся, а во-вторых, в свете наших колоссальных задач не все ли равно, согласись, на какой кровати спать и на каком стуле сидеть, не в том суть.
Ни вода, ни холод, никакие стихии не заставят Семку говорить порезвей и округлять фразы менее тщательно, когда он впадает в лекторский тон.
— Илья валялся в тюрьме на голых нарах, а теперь у него пружинный матрац, и ни то ни другое для него не предмет эмоций, он живет другими проблемами. Разумеется, если товарищ разложился и за барахло готов, что называется, продать душу дьяволу, — но в данном случае это не имеет места. Если я восстановлю статус-кво, это произойдет по другим принципиальным причинам. Должен тебе сказать — Илья, при всем своем уме, недооценивает пионерское движение.
— Из-за этого уйдешь? Стоит ли? Ты уйдешь, а он вдруг передумает и дооценит.
— Не будем шутить. Я несколько устал от шуток на эту тему. Создается впечатление, что Илья Городницкий в нашем возрасте уже имел выдающиеся заслуги, а я учу детей бить в барабан и петь «Картошку». Невероятно, но факт, — он недооценивает и значение антирелигиозной пропаганды.
— Да что ты говоришь, — сочувственно замечает Севастьянов. Дело ясное — Илья, легкий человек, любящий улыбку, разок-другой неосторожно пошутил над Семкиными занятиями, и Семка полез в бутылку, ему невыносимы эти шуточки в присутствии Марианны, он желает быть в ее глазах деятелем, несущим груз ответственнейших забот.
— Это, наверно, мнительность твоя. С чего бы ему плохо относиться к антирелигиозной пропаганде? Но раз контакт не получился — смывайся, и все.
— Смоюсь, если станет невтерпеж, — глухо отвечает Семка, и они трясут друг другу озябшие руки.
— Пока.
— Пока.
«Скрутило Семку, он и делает из мухи слона, — думает Севастьянов, шагая дальше по лужам, — Илье надо бы отнестись более тактично и не шутить над ним, когда такое дело».
Севастьянов дома. Снимает и развешивает мокрую амуницию. На столе тетрадки. Севастьянов открывает тетрадь в клеточку, садится решать уравнения. Совсем с азов начал, уравнения с одним неизвестным для него открытие.
Решил, а ложиться не хочет. Он вообще мало стал спать.
Сперва потому не спал, что подкатывало к горлу, не продохнуть было от ерунды этой, которую она натворила. Лежал и разговаривал с ней: «Несчастная моя дура. Набитая моя дура. Что это ты сделала, зачем ты так сделала!»
Тогда комнатушка еще полна была ею, ее движением, мельканием ее рук. Сейчас выветрилось. Комната как комната. Ничего никогда в ней не происходило особенного. Жили-были вдвоем с Семкой, теперь Севастьянов живет один, может быть — опять будет жить с Семкой. Не спит он оттого, что пытается записать на бумагу лица и картины, которые привязались и не отвязываются.
Люди — много, разные. Говорят всякий свое.
Звенят трамваи. Кричит паровоз. Хлопают паруса и флаги.
Люди и вещи кружат вокруг солнца и требуют, чтобы о них рассказали.
Он пишет медленно, нащупывая связи, фразы, имена.
Расставляя все по местам и переставляя. Каждый раз оказывается — не так.
Пробует описать женщину, как стоит она против убийц и дети цепляются за ее подол.
Еще недавно сочинялось так лихо, на ходу.
Он не верит Залесскому, что тот стрелялся. Если и стрелялся, то несерьезно: недаром промахнулся. Севастьянов ни разу не хотел умереть; как ни подступало к горлу — умереть он не хотел. Даже когда думал: «Лучше смерть!» — он лгал самому себе, он хотел жить.
Тогда, на паруснике, они с Колей опоздали к утреннему поезду, только вечером уехали из Т. Севастьянов вернулся домой ранним утром. Первым трамваем ехал с вокзала.
Зои не было. Кровать была застелена по-дневному.
На столе, белея, лежало письмо.
Он разорвал конверт, прочел. Подумал: что за номера.
Подоконник был пуст. Она свои вещички держала на подоконнике: зеркало, гребенку, одеколон, коробочку со всякой дребеденью — все исчезло. В жестянке от какао стояли засохшие розы, свесив некрасивые сморщенные головки; Севастьянов не сразу догадался, что это те самые розы. Платьев не было на стене, одна деревянная распялка для платья.